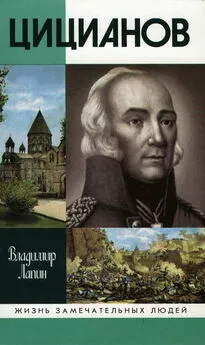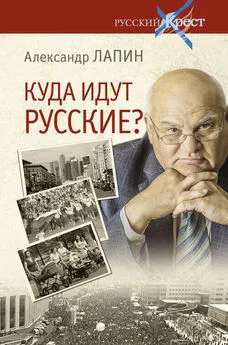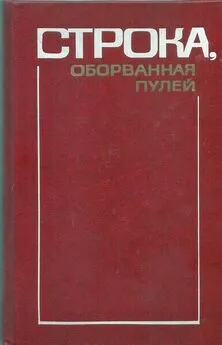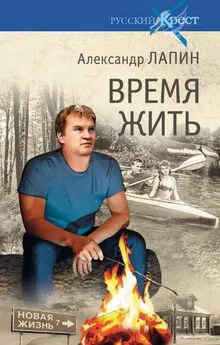Владимир Лапин - Цицианов
- Название:Цицианов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:2011
- Город:Москва
- ISBN:978-5-235-03484-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Лапин - Цицианов краткое содержание
Генерал от инфантерии князь Павел Дмитриевич Цицианов (1754— 1806) принадлежит к числу тех, кого принято называть строителями Российской империи. Представитель древнего грузинского княжеского рода, он был горячим патриотом России и в буквальном смысле слова сложил голову, защищая интересы своего Отечества. Именно на его долю выпала реализация судьбоносного для двух стран манифеста императора Александра I о присоединении Грузии к России; ему же пришлось делать первые шаги в «умиротворении» Северного Кавказа и, одному из первых, осознать масштаб тех проблем, решение которых спустя несколько десятилетий после его гибели назвали Кавказской войной. О трагической судьбе князя П. Д. Цицианова и об истории вхождения Закавказья в состав Российской империи рассказывается в книге доктора исторических наук, специалиста по русской военной истории Владимира Викентьевича Лапина.
Цицианов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Но не только военному делу обучился Котляревский у своего наставника. Он прекрасно усвоил: словам восточных владык верить нельзя, они уважают только силу. В 1812 году его отряд прикрывал Карабахское ханство от вторжения персидской армии, командующий которой Аббас-Мирза предложил перемирие с целью выиграть время для нападения на другого союзника русских — талышского хана. Котляревский, выросший на Кавказе, прекрасно понимал эти хитрости, но был связан по рукам и ногам присутствием главнокомандующего Н.Ф. Ртищева, нерешительного по характеру и стремившегося уладить дело миром. Ртищев верил клятвенным, но ничего не стоящим заверениям Аббас-Мирзы и запрещал Котляревскому какие бы то ни было активные действия. Ситуация становилась угрожающей: пассивность русских воспринималась как слабость, карабахцы и талыши уже подумывали о переходе на сторону персов. Но «выручили» восставшие горцы, перекрывшие движение по Военно-Грузинской дороге. Главнокомандующий кинулся восстанавливать связь Грузии с Россией, а ученик Цицианова получил свободу действий. Что он сказал карабахскому владетелю Мехти-Кули-хану, неизвестно, но тот сразу передумал помогать персам. Скорее всего, русский генерал усвоил риторику пылкого грузинского князя и нашел нужные слова для воздействия на ум и душу восточного правителя. Обезопасив свои тылы, Котляревский с отрядом, состоящим из полутора тысяч человек, решил перейти Араке и нанести внезапный удар с тыла по персидскому войску, превосходившему его по численности в 20 раз! Замысел оказался верным: русская пехота подошла к вражеским позициям до того, как Аббас-Мирза опомнился. Однако, бросив обозы и часть артиллерии, персы сумели отступить и расположились в укрепленном лагере у местечка Асландуз. Несмотря на утомление войск, Котляревский не дал врагу передышки и бросил свои батальоны в ночную атаку, что в те времена было большой редкостью. В лагере вспыхнула паника, ни о каком сопротивлении не было и речи. Бойня у Асландуза произвела такое впечатление, что командиры нескольких персидских отрядов, уже вошедших на территорию Азербайджана, сразу вернулись за Араке. Множество беков, намеревавшихся поднять мятеж, не решились взяться за оружие. Гарнизоны небольших персидских укреплений бежали при одном известии, что к ним идет страшный Котляревский. Известие об этой победе было с восторгом встречено в Петербурге и всей России. Надо представлять атмосферу тревожного ожидания осени 1812 года, чтобы понять, какое впечатление произвела новость о разгроме персов. Победитель получил чин генерал-лейтенанта и орден Святого Георгия 3-й степени.
В руках противника оставалось Талышское ханство, и Котляревский отправился туда во главе двухтысячного отряда. Персы сделали ставку на оборону крепости Ленкорань, комендант которой отверг предложение о сдаче. Бомбардировка не дала ощутимых результатов, так как ядра увязали в глинобитных стенах, не нанося им повреждений. Взять укрепление измором также было невозможно — экспедиционный корпус сам жестоко страдал от холодов и нехватки провианта, подвоз которого морем исключался из-за зимних штормов. В одном из своих приказов Котляревский писал: «…чем скорее идешь на штурм и чем шибче лезешь на лестницы, тем менее урон взять крепость; опытные солдаты сие знают, а не опытные поверят…» [806]Атака поначалу развивалась не очень удачно: гарнизон отбивался отчаянно, командовавший штурмовой колонной подполковник Ушаков был убит. Котляревский бросился ободрять своих подчиненных и был ранен тремя пулями. Известие об этом разъярило солдат, с удвоенной силой они бросились на стены, захватили стоявшие на ней пушки и стали стрелять из них по защитникам крепости. Это и стало переломным моментом сражения. Одна из трех пуль, попавших в генерала, выбила ему глаз и раздробила лицевые кости. Уровень тогдашней хирургии не позволял делать необходимые восстановительные операции, и генерал оказался обречен на пожизненные мучения [807]. Он ушел в отпуск по болезни, оказавшийся бессрочным, и жил практически безвыездно в своем имении. В 1826 году, когда разгорелась новая война с Персией, Николай I наградил его чином генерала от инфантерии, прислал ветерану рескрипт с признанием его заслуг и приглашением вернуться на службу. Однако надежд на восстановление здоровья уже не оставалось: рана на лице периодически открывалась, и через нее выходили наружу осколки раздробленных костей. Это те самые «язвы чести», о которых писал поэт. Котляревский не мог даже выходить на улицу в холодную погоду и потому перебрался в Крым, где и скончался 21 октября 1851 года. До последних своих дней он интересовался событиями на Кавказе, состоял в переписке с боевыми товарищами, хлопотал об определении на службу молодых офицеров. Его имя заняло достойное место в пантеоне отечественной военной славы. Вся Россия знала слова поэта Домонтовича:
О Котляревский! Вечной славой
Ты озарил кавказский штык!
Помянем путь его кровавый —
Его полков победный клик…
История Котляревского — пример пристрастности и изменчивости народной памяти. Генерал принадлежал к числу тех фигур, которые, будучи известными каждому современнику при жизни, уходят в прошлое со своим веком. В следующем поколении таких людей знают только те, для кого они являются частью семейного или корпоративного мифа. С угасанием последнего растворяется в забытьи и образ некогда всем известного героя. Безусловно, для утверждения в памяти народа нужны деяния, значение которых неоспоримо. Но сами по себе выдающиеся заслуги перед отечеством вовсе не гарантируют бессмертие. Сама судьба должна проследить за тем, чтобы после кончины личность человека и его подвиги на избранном поприще не потонули в потоке последующих впечатлений. Можно составить длиннейший список исторических «несправедливостей», если понимать под таковыми постепенное посмертное забвение. Котляревский, как, впрочем, и Цицианов, оказался в своеобразной исторической тени, которая образуется по своим законам: люди помнят то, что хотят и что могут помнить.
Не все и не всегда соглашаются с этими законами. Котляревский видел, сколь мало Россия знает о происходившем на Кавказе. В Санкт-Петербурге уже были поставлены памятники Кутузову и Барклаю де Толли, Александрийская колонна, Нарвские триумфальные ворота. Триумфальные ворота появились даже в честь победы над восставшими в 1831 году поляками. Намекая на явную несправедливость к памяти героев Кавказа, Котляревский в письме князю М.С. Воронцову от 13 января 1846 года предложил установить в Тифлисе памятник в виде четырехгранной пирамиды. На лицевой стороне он предлагал следующую надпись: «Российским войскам первой Персидской войны, начавшейся в 1802 году и кончившейся в 1813 году, малым числом принесших много пользы отечеству». На противоположной стороне — «Воздвигнут памятник сей в царствование Императора Николая I. При Главнокомандующем князе Воронцове 18… года … числа». Две другие стороны обелиска предназначались для имен генералов и названий частей, сражавшихся за Кавказом. В письме М.С. Воронцову от 23 мая 1847 года Котляревский одобрял также идею устройства памятников в Гяндже и Ленкорани. «…Для меня вдвойне было бы приятнее, — писал он, — когда бы на Гянджинском памятнике можно изобразить тот момент, в который Вы взяли меня, раненого, под одну руку, а взявший под другую, егерь моей роты Иван Богатырев, был тут же убит. Эту картину я хочу иметь написанную хорошим живописцем и передать ее в род мой с завещанием хранить и питать благоговейное уважение к имени Воронцова для позднейшего знакомства» [808]. Памятник появился в 1850 году, но гораздо более скромный, нежели тот, который задумывал генерал. Оштукатуренный кирпичный пилон был увенчан крестом; на чугунной доске с лицевой стороны имелась надпись: «Близ сего места 2 декабря 1803 г. при занятии садов и форштадта крепости Ганжи, под главным начальством и в присутствии князя Цицианова, ранен был в первый раз пулею в ногу 17-го егерского полка капитан Котляревский». Надпись на доске, закрепленной с тыльной стороны, гласила: «Скромный сей памятник герою Асландуза и Ленкорани соорудил бывший с ним в этом деле гвардии поручик граф Воронцов, впоследствии Главнокомандующий и Наместник Кавказский». Во второй половине XIX века монумент едва не разрушился, но был отреставрирован в 1894 году [809].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: