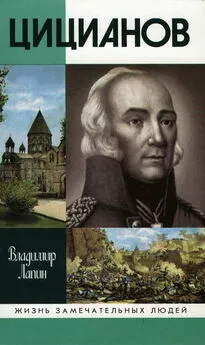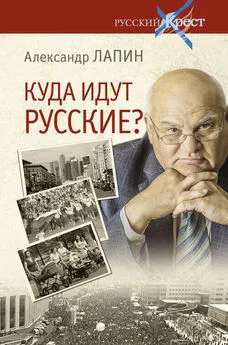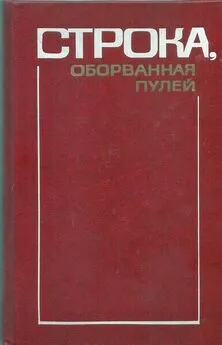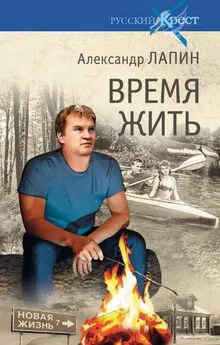Владимир Лапин - Цицианов
- Название:Цицианов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:2011
- Город:Москва
- ISBN:978-5-235-03484-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Лапин - Цицианов краткое содержание
Генерал от инфантерии князь Павел Дмитриевич Цицианов (1754— 1806) принадлежит к числу тех, кого принято называть строителями Российской империи. Представитель древнего грузинского княжеского рода, он был горячим патриотом России и в буквальном смысле слова сложил голову, защищая интересы своего Отечества. Именно на его долю выпала реализация судьбоносного для двух стран манифеста императора Александра I о присоединении Грузии к России; ему же пришлось делать первые шаги в «умиротворении» Северного Кавказа и, одному из первых, осознать масштаб тех проблем, решение которых спустя несколько десятилетий после его гибели назвали Кавказской войной. О трагической судьбе князя П. Д. Цицианова и об истории вхождения Закавказья в состав Российской империи рассказывается в книге доктора исторических наук, специалиста по русской военной истории Владимира Викентьевича Лапина.
Цицианов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Только через восемь месяцев после получения высочайшего распоряжения Александр Чавчавадзе отправился в ссылку. Такую дерзкую неторопливость в осуществлении царской воли можно объяснить тем, что в это время предпринимались меры для еще большего смягчения наказания. Александр I был в Австрийском походе, и судьба его тезки решалась на полях сражений. Победа над Наполеоном наполнила бы сердце царя таким ликованием, что всякого рода милости посыпались бы как из рога изобилия. Но мы знаем, что русская армия потерпела сокрушительное поражение, после которого мало кто старался без особой нужды показываться на глаза огорченному монарху. Высылку князя-мятежника затягивать больше не стали, на послабления рассчитывать не приходилось. Чтобы горячий отпрыск знаменитого рода не совершил очередного необдуманного поступка, главнокомандующий предписал доставить арестанта до места ссылки под усиленным конвоем: «…по оному тракту конвоевать его неослабно от станции к станции по одному исправному офицеру и по два конно-вооруженных казаков, кои бы во время ночлега или дневки имели его под своим караулом; а сверх того, препровождавшему онаго камер-пажа (А. Чавчавадзе. — В.Л.) Севастопольского мушкетерского полка штабс-капитану Жлецову дано от меня предписание, чтоб во время ночлега или дневки, где случатся регулярные команды, то требовать караул при надежном унтер-офицере по 12 человек рядовых» [361]. После ссылки А. Чавчавадзе вернулся на службу, за отличие в боях и походах 1812—1813 годов был награжден золотой саблей, в 1821—1822 годах командовал элитными частями Отдельного Кавказского корпуса — Нижегородским драгунским и Кавказским гренадерским полками, в 1826-м получил чин генерал-майора. В 1830 году вышел в отставку и занялся разведением чая в своем имении Цинандали. В его доме гостили А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, В.К. Кюхельбекер, художник Гагарин. Дочь его вышла замуж за А.С. Грибоедова. Несмотря на кровь, пролитую за империю, князь сочувствовал тем, кто пытался восстановить грузинскую государственность. Поэтому он был арестован в связи с заговором 1832 года и сослан в уже знакомый ему Тамбов. В 1838 году Николай I его простил, назначил членом совета при главнокомандующем Кавказской армией, в 1841-м произвел в генерал-лейтенанты и поручил руководить почтовой службой Закавказского края. «Дважды опальный князь» считается родоначальником романтического направления в грузинской поэзии. Он перевел на грузинский язык многие произведения мировой литературы и написал «Краткий очерк истории Грузии 1801—1831 годов».
Стремление Цицианова по возможности смягчить наказание Чавчавадзе можно объяснить его желанием сохранить для края хотя и «беспокойного», но незаурядного человека, способного играть важную роль посредника между двумя народами и двумя культурами. Здесь особо следует отметить позицию А. Чавчавадзе в 1832 году. Он симпатизировал идеям возрождения Грузинского царства, но считал это невыполнимым делом, открыто заявляя о том заговорщикам, но скрывая их замыслы от правительства.
Вторым после дворянства по влиянию сословием в Грузии было духовенство. Разумеется, Цицианов осознавал необходимость установления с ним добрых отношений, а также использования авторитета священнослужителей для поддержки мер правительства. Задача эта оказалась не из простых. Некоторые пастыри по своим нравам мало чем уступали буйным князьям. Вот например: «…При совершении обряда погребения архиепископа Самтаварского и Цилкианского Иоанна по случаю спора за место между протоиереем Соломоном, церкви ведомства католикоса, и протоиереем же первого здешнего собора, Сион именуемого, — когда митрополит Арсений, первенство обряда сем занимавший, настаивал, чтобы первый уступил место последнему, то от сего произошла ссора, сопровождаемая дракой между митрополитом и протоиереем Соломоном, который, не могши удержать своего места, ушел из собора. По возвращении же из церкви митрополита Арсения несколько вооруженных людей разбойнически напали на него дорогой и ранили его и нескольких его служителей, и что по замечанию его, люди сии должны быть дети помянутого протоиерея Соломона и служители католикоса и обеих цариц…» [362]В царствование Александра I такая скандальная хроника попадала в рапорты на высочайшее имя только в тех случаях, когда до царя доходили известия о чем-то вопиющем и монарх желал узнать подробности для определения меры наказания. Цицианов же отправил рапорт 10 февраля 1803 года без запроса из столицы. Можно предположить, что главнокомандующий готовил почву для вмешательства в дела Грузинской церкви: коронная власть не могла оставить без внимания то, что видные посты в ней занимали люди, не стеснявшиеся устраивать потасовку прямо в церкви, да еще во время службы. Нападение же на митрополита Арсения вообще выходило за всякие рамки.
Одной из бед Грузинской церкви была ее бедность. Недостаток средств на содержание храмов и даже на пропитание испытывали не только сельские священники, но и главы епархий. В этой связи еще в 1801 году Александр I выступил за уменьшение числа «высоких духовных званий». Одним из шагов на этом пути было слияние малолюдных епархий. Однако после смерти главы Цилкианской епархии католикос Антоний не упразднил ее, не слил с соседней епархией, а передал в управление своему родственнику. Рассыпая в письме католикосу почтительные слова, Цицианов одновременно в жесткой форме потребовал беспрекословного выполнения царской воли [363]. Для того чтобы улучшить состояние церковных зданий, обогатить их убранство, Цицианов 18 февраля 1804 года потребовал от католикоса Антония обратить на это доходы от продажи восковых свечей, ранее являвшиеся доходом священнослужителей, и запретить с 1 апреля торговлю свечами вне церкви.
Вскоре после своего прибытия в Грузию Цицианов приказал произвести ревизию собственности местной церкви. Но даже по прошествии восьми месяцев он не смог получить нужных сведений. Католикос и его подчиненные всячески затягивали дело. Правительство также занимал вопрос о пополнении рядов черного и белого духовенства. По существовавшим в Грузии законам любой крестьянин, даже крепостной, при желании мог уйти в монастырь или стать священником. С точки зрения российского дворянина, это выглядело совершенным вольтерьянством. Не существовало никаких штатов церковнослужителей, правительство не контролировало посвящения в сан, что также было совершенно нетерпимо в «регулярном государстве». Главнокомандующий занимал в этих вопросах совершенно определенную позицию. Это видно из его письма католикосу Антонию от 23 марта 1804 года: «8 месяцев не достигнув переписи духовных имений… до сего часа желая вседушно не навлечь справедливого гнева на вас от Его императорского величества… не имел счастья всеподданнейше донести Его императорскому величеству о таковом постыдном промедлении… Всякий архиепископ и епископ посвящает как в священники, так и других служителей должности, а архимандриты в монахи постригают без всякого разбора, по воле своей, не взирая ни на лета, ни на звание, ни на состояние человека, так что и крепостных людей вольны постригать в монашеский чин невозбранно от помещика. Таковые правила, злоупотреблением рожденные и корыстью поддерживаемые, заставляют меня опасаться, чтоб одна половина Грузии не обратилась в иноческий сан, а другая — в белое духовенство… Известно, сколь бедны здешние церкви и монастыри, пребывая в постыдном для христианства состоянии как нелепием своим, так и священнослужителями, едва читать умеющими; умножением же священников и монахов отъемлется от церквей и монастырей доход, могущий быть обращен на снабжение церквей и монастырей необходимой и соответствующей храму Божьему утварью и священнослужителями, достойными святыни, к коей прикасаются как по сердцу, так и по уму, научаясь в семинарии… Есть церкви, не имеющие дохода… и имеющие 14 священников. Покорнейше прошу приостановить как пострижение в монахи, так и посвящение в священники, дьяконы, подьяконы и дьячки, доколе собранные сведения о духовном имении буду иметь счастье представить Его императорскому величеству… и испросить штата как церквам приходским, так и монастырям…» Через две недели католикос сообщил, что всякое посвящение в сан и пострижение в монахи приостановлены до утверждения штатов монастырей и приходов [364].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: