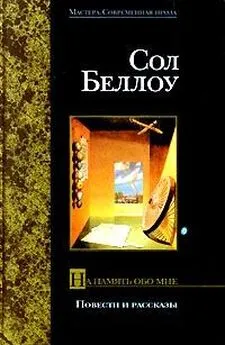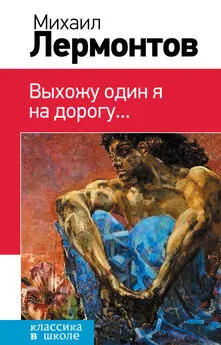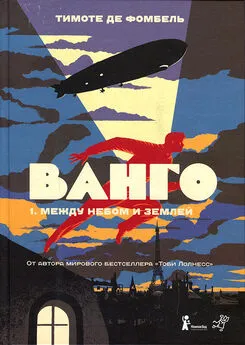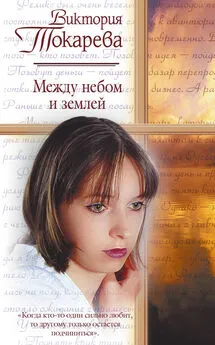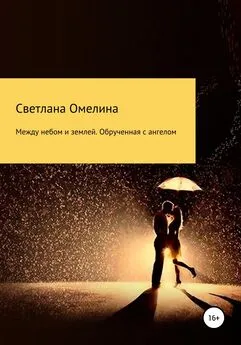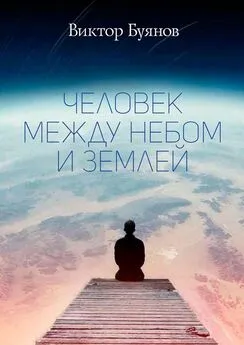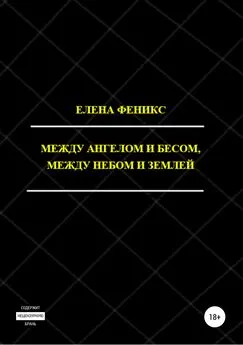Валерий Михайлов - Михаил Лермонтов. Один меж небом и землей
- Название:Михаил Лермонтов. Один меж небом и землей
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Алгоритм
- Год:2011
- Город:Москва
- ISBN:978-5-6995-056
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Валерий Михайлов - Михаил Лермонтов. Один меж небом и землей краткое содержание
Прошло ровно 170 лет с того дня, как на склоне горы Машук в Пятигорске был убит великий поэт, навсегда унеся с собой тайну своей жизни и смерти. Ему не исполнилось тогда и 27-ми. Лермонтов предсказывал свой скорый конец, видел вещие сны… Гибель двух величайших русских поэтов, Пушкина и Лермонтова, случившаяся чуть ли не подряд, с разницей всего в четыре года, – разве она не была страшным знаком для всей страны? Поэт – сердце нации, её символ. Когда убивают поэта, попадают в самое сердце народа. И разве до сих пор не идёт, не продолжается то, что, казалось бы, так очевидно прочитывалось в этих двух событиях, – размышляет автор книги, обращаясь к биографии и творчеству русского гения, полных загадок и предзнаменований.
Михаил Лермонтов. Один меж небом и землей - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
– Это, поди, сберегающая молитва, – сказал Зот Зарубин.
Все с ним согласились. Кто-то даже предложил кусок замши на ладанку…
Уверовал в нее и Стахей. Оберегающую молитву зашил в ладанку и носил на груди, рядом с крестом. Прошел с ней через все смертельные походы. Даже под Махрамом прошел, как «сухим по дождю»…
Когда умер дед Стахей, вскрыли чудодейственную ладанку, оберегавшую старого вояку во множестве сражений и жарких поединков с врагом на поле боя. В ней оказалось стихотворение Лермонтова:Храни Господь тебя на поле брани
От пули меткой и шальной…
Так вот кого уберег казак-джигит Борзиков…»
Вполне так могло и быть.
Очень уж образ поручика из этой легенды напоминает Лермонтова: казакам с первого взгляда не понравился, мрачный, молчаливый, неприветливый, будто и спасению не рад.
Да только вот нет в книгах Лермонтова такого стихотворения.
Может, память в точности не уберегла строки? Или это был утраченный впоследствии экспромт?..
Окончание легенды, записанной журналистом, не многое объясняет:
«Беспощадное время все забрало: чоха (черкеска) – сносилась, газыри растеряли ребятишки, кубачинский кинжал унес поселковый милиционер. А стихотворение из ладанки забрал приехавший за ней какой-то московский писатель. Сказал, повезет-де ладанку в Тарханы, на родину Лермонтова, на панихиду, которую собирается проводить Союз писателей в столетнюю годовщину гибели поэта. При слове «панихида» Борзиковы прониклись доверием к писателю и отдали ладанку без сожаления. А в Тарханах знали об Уральске так же, как в Уральске знали о Тарханах.
Бабушка Лермонтова, Елизавета Алексеевна Арсеньева, была сродни наказному атаману Аркадию Дмитриевичу. Значит, и мать, и сам Михаил Юрьевич были родственниками нашему атаману…
Обнадежил писатель – стихотворение не вернул. Время-то уж больно лихое – 1941 год».
В общем развеялась легенда дымом, не оставив по себе ничего.
Ничего, кроме тайны…
4 Что же так сумрачен был этот своевольный насмешник и весельчак, лихой рубака, который вошел во вкус войны и которому война стала родной стихией? Что же не радовался жизни и своему спасению?..Я к вам пишу случайно; право
Не знаю как и для чего.
Я потерял уж это право.
И что скажу вам? – ничего!
Что помню вас? – но, боже правый,
Вы это знаете давно;
И вам, конечно, все равно.
Лермонтов не потрудился даже озаглавить свое гениальное, довольно большое по объему стихотворение – то ли послание, то ли исповедь, то ли созерцание с какой-то надмирной высоты и себя, и своей отошедшей любви, и недавней кровопролитной битвы при речке Валерик, и вообще человека на земле. Видно, и не собирался отдавать произведение в печать. Ну, а той, к кому он обращался в этих стихах, вряд ли при его жизни было что-нибудь известно: Варвара Лопухина, впрочем, уже давно Бахметева, могла прочесть стихотворение разве что в 1843 году, спустя два года после гибели поэта, когда оно было впервые напечатано в альманахе «Утренняя заря» – с пропусками, опечатками. Там, в альманахе, и дали заголовок – «Валерик». Словом, это было послание в никуда – и пришло оно к Вареньке и к читателям уже оттуда …
И знать вам также нету нужды,
Где я? что я? в какой глуши?
Душою мы друг другу чужды,
Да вряд ли есть родство души.
Перебрав «по порядку» прошлое, он разуверился «остынувшим умом» во всем на свете, забыл «любовь, поэзию»,
…но вас
Забыть мне было невозможно.
На глубине одиночества осталось лишь одно воспоминание, один образ, скорее даже не образ, а его тень. Но и этого было достаточно, чтобы жить им.
И к этой мысли я привык,
Мой крест несу я без роптанья:
То иль иное наказанье?
Не все ль одно. Я жизнь постиг;
Судьбе, как турок иль татарин,
За все я ровно благодарен;
У Бога счастья не прошу
И молча зло переношу.
И вот, естественно и незаметно перейдя от «турка и татарина» к «Востоку», стихи меняют настроение: мрачное безысходное чувство уступает место ровному расположению духа:
Быть может, небеса Востока
Меня с ученьем их пророка
Невольно сблизили. Притом
И жизнь всечасно кочевая,
Труды, заботы ночь и днем,
Все, размышлению мешая,
Приводит в первобытный вид
Больную душу: сердце спит,
Простора нет воображенью…
И нет работы голове…
Вот оно еще почему молодые мужчины рвались на войну!..
Не там ли душа обретала «первобытный вид» – возвращалась в свое здоровое, ясное и твердое состояние:
Зато лежишь в густой траве И дремлешь под широкой тенью Чинар иль виноградных лоз; Кругом белеются палатки; Казачьи тощие лошадки Стоят рядком, повеся нос; У медных пушек спит прислуга. Едва дымятся фитили; Попарно цепь стоит вдали; Штыки горят под солнцем юга.
Волшебная проза фронтовой жизни: глаз художника видит все подробности походного быта; передышка, но все настороже, враг в любое мгновение может напасть, и потому не потушены фитили; а ухо слышит немудреные солдатские речи,Как при Ермолове ходили
В Чечню, в Аварию, к горам;
Как там дрались, как мы их били,
Как доставалося и нам…
Это растворение в простом, в походном, приземленное, но высокое созерцание, когда солдатская жизнь раскрывается изнутри, безыскуственный рассказ , как определил сам Лермонтов свое произведение – его находка, его художественное открытие. Отсюда пошла вся русская военная проза от Льва Толстого доныне. И как просто, как искренне его новое, братское чувство, сменившее прежнее, когда он «разуверялся» во всем:
И вижу я неподалеку
У речки, следуя пророку,
Мирной татарин свой намаз
Творит, не подымая глаз;
А вот кружком сидят другие.
Люблю я цвет их желтых лиц,
Подобный цвету ноговиц,
Их шапки, рукава худые,
Их темный и лукавый взор
И их гортанный разговор.
И следом – про шальную пулю («славный звук»), про то, как «зашевелилась пехота», про команду «живо выдвигать повозки»… а между тем есть еще время подымить чубуком:
«Савельич!» – «Ой ли!» – «Дай огниво!»… —
и про схватку-единоборство, как в старину, неприятельского мюрида в красной черкеске с отважным гребенским казаком, ответившим на его вызов… а там перестрелка, легкий бой. Живая, редкая по непосредственности зарисовка. Неожиданно тон повествования снова меняется: вместо добродушной созерцательности – печаль, и мы слышим голос самого поэта:
Но в этих сшибках удалых
Забавы много, толку мало;
Прохладным вечером, бывало,
Мы любовалися на них
Без кровожадного волненья,
Как на трагический балет;
Зато видал я представленья,
Каких у вас на сцене нет.
«Балет», «представленья» – это чтобы было понятнее молодой столичной барыне, к которой обращается поэт, – но уже в нелепом эпитете «трагический» театральное понятие «балет» изломано подлинной трагедией и болью.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: