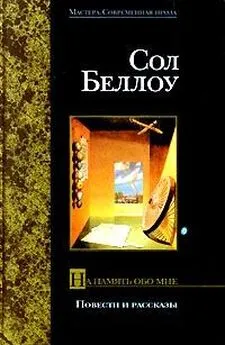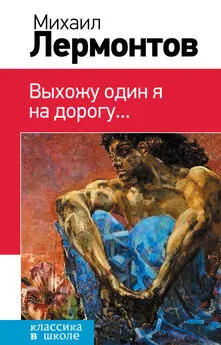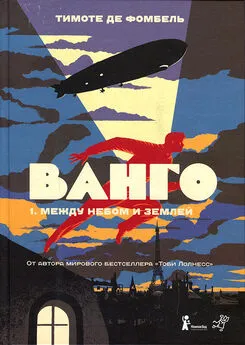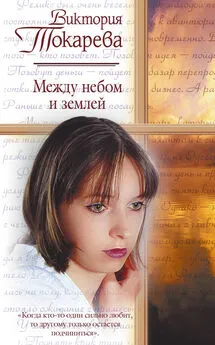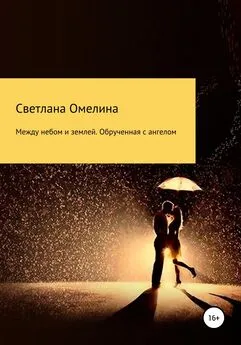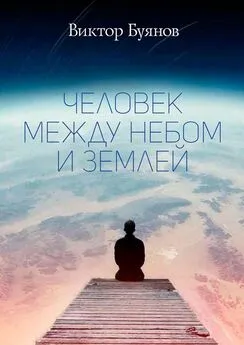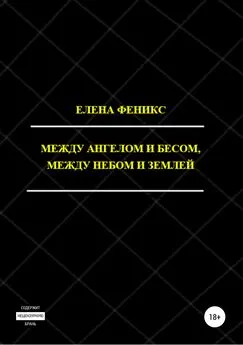Валерий Михайлов - Михаил Лермонтов. Один меж небом и землей
- Название:Михаил Лермонтов. Один меж небом и землей
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Алгоритм
- Год:2011
- Город:Москва
- ISBN:978-5-6995-056
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Валерий Михайлов - Михаил Лермонтов. Один меж небом и землей краткое содержание
Прошло ровно 170 лет с того дня, как на склоне горы Машук в Пятигорске был убит великий поэт, навсегда унеся с собой тайну своей жизни и смерти. Ему не исполнилось тогда и 27-ми. Лермонтов предсказывал свой скорый конец, видел вещие сны… Гибель двух величайших русских поэтов, Пушкина и Лермонтова, случившаяся чуть ли не подряд, с разницей всего в четыре года, – разве она не была страшным знаком для всей страны? Поэт – сердце нации, её символ. Когда убивают поэта, попадают в самое сердце народа. И разве до сих пор не идёт, не продолжается то, что, казалось бы, так очевидно прочитывалось в этих двух событиях, – размышляет автор книги, обращаясь к биографии и творчеству русского гения, полных загадок и предзнаменований.
Михаил Лермонтов. Один меж небом и землей - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Не будь на то Господня воля,
Не отдали б Москвы!
Молодой горячий офицер, полагаю, ни в чем не расходился тут со старым воином-рассказчиком из «Бородина». Однако при всем при этом он оставался самим собой – выясняя свои собственные отношения с Господом.
«Быть может, он и был прав в отношении себя: «исчезнуть» он не боялся, а хотелось поскорее «мир увидеть новый», – продолжает свою мысль Перцов. – Но, несомненно, он был не прав объективно – забыв свой гений. Сила личности (и отсюда – самососредоточенности) слишком ослабила в нем чувство обязанности (своей относительности)».
Как сказать…
Одним нравится жить в спокойствии на равнине, другим по душе горы с их землетрусом , а то и склоны вулкана.
Гений Лермонтова, испытав его в самой ранней юности страхом совершенного исчезновения, потом уже не позволял ему бояться ничего.
Да, поэт жил мгновением, но – сверхплотным по энергии. В том и состояла его обязанность , которую он исполнял вполне, в меру всех своих могучих сил, да и исполнил на земле.
Один из последующих афоризмов Петра Перцова гораздо более бесспорен:
«Лермонтов некоторыми внешними чертами сходен со Львом Толстым (осуждение войны; апофеоз «смирного» типа), но внутренне – вполне ему противоположен. У него не только нет страха смерти (центральное чувство у Толстого), но нет даже мысли о ней – никакого ее чувства. «Смерть, где жало твое?» Чувство жизни – Вечной Жизни, – и отсюда полное равнодушие к «переходу». Земную жизнь он чувствует еще меньше, чем Толстой, но не от врожденного настроения «Старости», как тот, а все от того же равнодушия. «Комок грязи, если нет дополнения» (его слова). Никакой зависти и тоски по земному, всегда сквозивших у Толстого. Это – поэт Воскресения, христианин насквозь, хотя он ничего не говорит о Христе».
Василий Розанов, исследуя творчество Лермонтова, сказал: «Идея «смерти» как «небытия» вовсе у него отсутствует».
2
«Не воображение впервые пробудило в Лермонтове романтика, но ему присущий необычный дар созерцать и осознавать мир», – писал Вячеслав Иванов.
Тут важен не романтизм как таковой, а подмеченный философом этот самый необычный дар .
«Искусство его представляется взгляду как верхний пласт первоначального внутреннего переживания, в форме отчасти плоской и искаженной. Реальность, представшая ему впервые, была двулика: в ней виденное наяву и виденное в полусне следовало одно за другим и подчас смешивалось. Мальчик, постоянно и повсюду выслеживая знаки и приметы невидимых сил и их воздействия в каждом акте своего существования, жил – так он грезил – двойной жизнью, таинственно связанной с сверхъестественным планом бытия, готовым в ближнем будущем снизойти в земной мир. Когда же рассеялся утренний туман, у возмужалого поэта осталась склонность приписывать странные и неожиданные случаи жизни влиянию скрытых сил, и он называл это «фатализмом»; ему нравился восточный призвук этого двусмысленного понятия, во имя которого он любил вызывать судьбу. И как каждое непосредственное, напряженное и долго длящееся сосредоточение сил указывает на действие скрытых функций, которые стремятся таким образом выявиться, нас не удивляют в его жизни некоторые случаи несомненного пров и дения: достаточно вспомнить элегию, в которой он видит себя лежащим, смертельно раненным, с «свинцом в груди», среди уступов скал; несколько месяцев спустя трагическое видение осуществилось с предельной точностью».
В том-то и дело, что вызывал свою судьбу Лермонтов, не только ее предугадывая и словно бы торопя к себе поскорее из будущего, но и, в полном соответствии со своим характером, в дуэльном смысле слова – то бишь на поединок, кто кого.
Тем не менее это отнюдь не «демонизм в теории, а для практики принцип фатализма», как считал Владимир Соловьев, а небывалое и потому никому не понятное проживание в полноте времени . Проживание одновременно – в прошлом, настоящем и будущем. Для поэта время во всех своих ипостасях, несомненно, было единым целым, и, повидимому, в некоторые, особенно напряженные моменты, он не слишком-то и различал, в каком из времен он находится.
То припоминая свое прошлое время (для Вяч. Иванова это – полусны , а для Дм. Мережковского – премiрное состояние души ), то всей силой натуры живя настоящим – мгновением, то, наконец, с пророческой мощью предугадывая будущность и невольно призывая ее к себе, он – на взлетах души – жил, по сути, вечностью в полном ее объеме. Недаром «так же просто, как другие люди говорят: моя жизнь, – Лермонтов говорит: моя вечность» (Мережковский). Недаром он, как отметил Мейер, обладал особым даром «воздушного касания к вещам и явлениям земного мира», что, конечно же, свойственно только тому художнику, который словно бы прикосновением ощущает изменяющееся время.
Отсюда у Лермонтова и дар пророчества. «Стихи Пушкина – царские стихи; стихи Лермонтова – пророческие стихи, – писал Петр Перцов. – Пушкин – золотой купол Исаакия над петровской Россией, но только над ней. Не он, а Лермонтов – великое обетование». (В православном понимании обетование – обещание; обещанное.)
В другом своем афоризме Перцов, говоря: как исключительно в Пушкине чувство жизни – так в Гоголе чувство смерти, – замечает: «Лермонтов – уже по ту сторону смерти, тем более по ту сторону «легкой», пушкинской, эвклидовой жизни – «в трех измерениях».
Прошлое у Лермонтова – не только земная прошедшая жизнь, но и домiрное состояние души, которое, в отличие от других людей, он частично помнит – и припоминает. А будущее – то, что припоминает из своего вечного времени.
Кто бы знал, как говорится, на собственной шкуре, каково испытывать такое?
Может, потому он так яростно и жил мгновением – настоящим временем, что ему надо было во что бы то ни стало забыться в нем от темных, накатывающих волн прошлого и могучего притяжения волн будущего.
То, что Владимир Соловьев называл «фаталистическим экспериментом» (например, поведение на последней дуэли), было для поэта, на самом деле, проживанием по ту сторону и жизни и смерти.
Философ и литературовед Георгий Мейер писал:
«…если были у Лермонтова истинные недруги, то, уж конечно, не Мартынов, убивший его на дуэли и всю жизнь молчаливым раскаянием искупавший свой грех, и не император Николай I, сердившийся на поэта за беспокойный нрав и на корнета за нерадение к службе. Нет, настоящим недругом Лермонтова, не считая корыстных и глупых издателей, был и остался один Владимир Соловьев. Это он написал преисполненную дидактики и морали «христианскую» статью, в которой пытался доказать, что Лермонтов «попусту сжег и закопал в прах и тлен то, что было ему дано для великого подъема», и что, «облекая в красоту формы ложные мысли и чувства, он делал и делает их привлекательными для неопытных», и сознание этого теперь, после смерти поэта, «должно тяжелым камнем лежать на душе его».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: