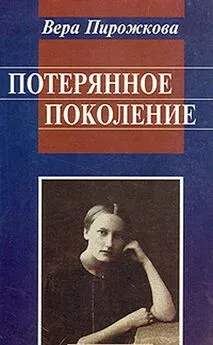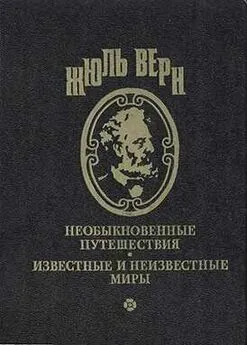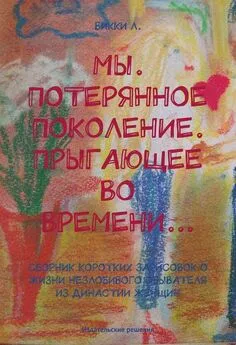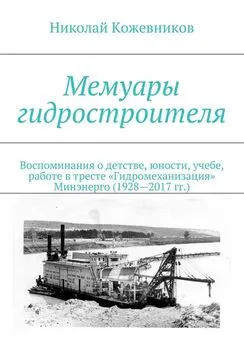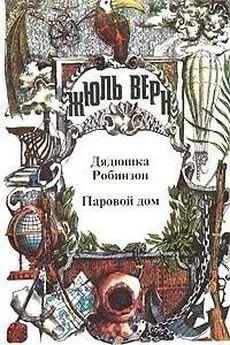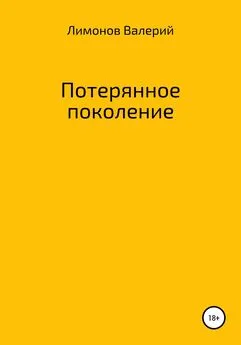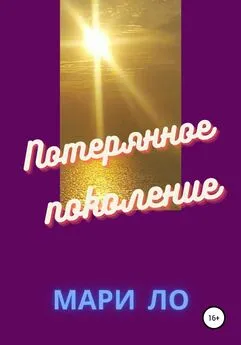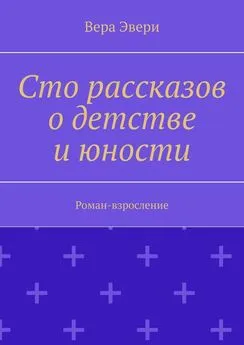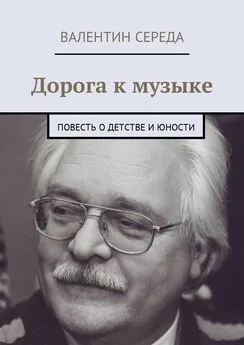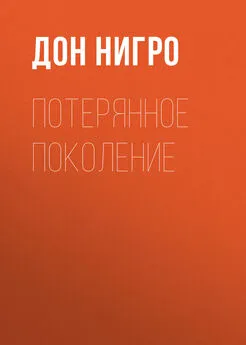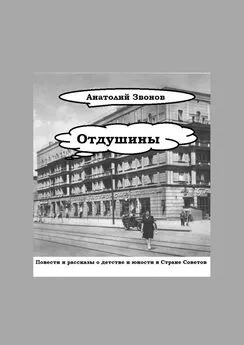Вера Пирожкова - Потерянное поколение. Воспоминания о детстве и юности
- Название:Потерянное поколение. Воспоминания о детстве и юности
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Журнал «Нева»
- Год:1998
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вера Пирожкова - Потерянное поколение. Воспоминания о детстве и юности краткое содержание
У автора книги «Мои три жизни» В. А. Пирожковой действительно три жизни. Первая началась вскоре после революции и окончилась Великой Отечественной войной. Вторая — пятьдесят лет жизни в Западной Германии, в течение которых она закончила Мюнхенский университет, стала профессором политологии и создателем журнала "Голос зарубежья". Третья — возвращение в Россию, в Санкт-Петербург, на Родину. Судьба автора этой книги — зеркало XX века, явившего человечеству и его бессилие, и его жизнестойкость. По сути, это книга о верности: верности своему языку, своей культуре — самому себе...
Потерянное поколение. Воспоминания о детстве и юности - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Был ряд самоубийств, особенно среди старшекурсников. Многие должны были бросить университет и пойти работать. К их числу относилась Катя Т. Работу она нашла где-то в провинции, недалеко от Ленинграда, и уехала из города. Катя К., моя школьная подруга, удержалась.
Мне еще раз придется повторить, что я должна была бы стыдиться тех материальных возможностей, которые предоставлял мне мой отец. Но в моем состоянии мне было не до таких самоупреков. На третьем курсе читались предметы, которые должны были бы меня заинтересовать, в области математики я скорее тянулась к абстрактным дисциплинам, а на третьем курсе как раз читали теорию групп, колец и полей, но и она захватила меня только на очень короткое время. Теорию множеств читал крупный ученый и блестящий лектор Смирнов, но и он не смог меня увлечь.
В то время я снова поселилась в семье на 2-й линии Васильевского острова, где жила на первом курсе, в том же углу, но только без столования.
Мой отец нередко приезжал в Ленинград, и однажды я последний раз попробовала поговорить с ним о моих внутренних поисках, вернее, моей безнадежности в то время. Но он снова отмахнулся от этих вопросов, посоветовав мне усиленнее заниматься математикой. Совет был теоретически правильным, но практически он мне в том моем состоянии ничем помочь не мог.
Моя школьная подруга Катя меня понимала. Она мне как-то сказала: «Я никак не могу представить себе тебя связанной с математикой, я представляю тебя связанной с чем-то хорошим в истории». И та история, которая развивалось перед нашими глазами — совсем не хорошая — единственно еще могла привлечь мое внимание.
Перед поездкой Молотова в Берлин в ноябре 1940 года я следила за газетами, чтобы постараться понять, какие требования он будет ставить Гитлеру. Что он будет что-то требовать, было ясно. В то время газеты начали пространно оплакивать несчастную судьбу румынских крестьян под властью румынских бояр. «Ага, — подумала я, — значит, Молотов будет требовать у Гитлера Румынию». Затем я прочла, что в Болгарии якобы с восторгом встречали нового советского посла, и потом следовали длинные рассуждения о старой русско-болгарской дружбе. «Он будет требовать от Гитлера и Болгарию», — подумала я с тревогой.
Уже после Второй мировой войны, когда были открыты немецкие архивы, я узнала, что я не ошиблась. Только Молотов требовал еще и проливы, чего я тогда не заметила.
После возвращения Молотова не было сомнений, что Гитлер ему во всех требованиях отказал. О посещении сообщалось скупо, газеты сразу перестали печатать обширно содержание выступлений Гитлера, ограничиваясь лишь краткими резюме. Весь тон прессы явно изменился. В ноябре 1940 года впервые потянуло ветром грядущей войны.
Вскоре после возвращения Молотова я как-то встретила Юлю на Невском. Мы остановились поболтать около какого-то кинотеатра. Вдруг Юля сказала: «Смотри, как раз скоро начнется дневной фильм, перед ним должны показать киножурнал о поездке Молотова. Пойдем, посмотрим живого Гитлера». Я согласилась. В киножурнале, действительно, показывали поездку Молотова, но «живого Гитлера» мы, собственно говоря, не увидели: его показали со спины, да еще в этот момент фильм затуманили, так что даже спину едва можно было различить. Выскользнув перед началом игрового фильма, который нас не интересовал, из здания, мы с Юлей переглянулись. «Чего они боятся? — спросила она. — Так ведь еще больше разжигается любопытство».
Я уже упоминала, что, увидев во время войны Гитлера на экране, я снова спрашивала себя: чего они боялись? Лицо Гитлера совсем не вызывало симпатии.
К концу первого полугодия я написала своим родителям, что я не могу сосредоточиться на математике и не буду ею пока заниматься. Мои родители приняли это спокойно. Как обычно, причину они искали в моей болезненности, в моей молодости, в том, что я была перегружена. Конечно, я была одна из самых молодых на курсе, но вряд ли это играло какую-либо роль. Известно, что логическое мышление доступно как раз совсем молодым и вундеркинд может появиться скорее в математических предметах, чем, скажем, в области исторических исследований, где нужен жизненный опыт. Да и почему я могла в еще более молодом возрасте прекрасно справляться с математическими предметами, а тут вдруг потеряла эту способность?
Что же касается до болезней, то после моего воспаления легких на первом курсе я как раз совсем не болела. Но объяснять всего этого своим родителям я даже не попробовала. Я уже знала из опыта, что тут они ставят какую-то странную стену непонимания между собой и моими отчаянными поисками смысла жизни.
Мой отец приехал в Ленинград и поговорил с ректором университета, который был его коллегой-математиком. И оказалось возможным то, что в строгих правилах университета, собственно говоря, запрещалось: мне дали как бы отпуск на полгода. Вероятно, были какие-нибудь врачебные справки, не помню. Мне было все совсем безразлично. В общем, мне разрешили на полгода прервать учение с тем, чтобы с осени повторить третий курс.
Дома меня ничем не беспокоили, считая, что я должна отдохнуть. Но отдыхать мне было не от чего, я не была переутомлена. Я просто не знала, зачем нужно жить… И я не предполагала, что это состояние к осени может измениться.
У моего отца были модные в годы его молодости философы, Ницше и Шопенгауэр, в немецком оригинале и в русском переводе. Ницше меня не увлек, но пессимистическая философия Шопенгауэра отвечала моим тогдашним настроениям, и я его много читала.
Я продолжала думать о положении в стране. По моим тогдашним прикидкам 90–95 % крестьян были настроены против советской власти. Среди рабочих, думала я, соотношение 50 на 50. Хотя рабочим тоже жилось очень тяжело, многие из них еще поддавались пропаганде о рабоче-крестьянской власти. Так мне тогда представлялось. Молодая интеллигенция, студенты, были, по моим тогдашним представлениям, на 80 % против советской власти. В этом пункте я, видимо, ошиблась. Я исходила из наблюдений особо оппозиционного Ленинградского университета. За два с половиной года я только раз столкнулась с приверженкой Сталина. Это была очень активная студентка, но не в политическом смысле, а в наших акциях одарения цветами любимых профессоров; в остальном же была она приветливая, но пустая девушка. Не помню, дотянула ли она до третьего курса, но еще на первом курсе мы как-то сидели на лекции рядом и заговорили о том, что Гоголь так и не смог написать ту часть «Мертвых душ», где он хотел вывести положительную личность. Я же сказала: «Идеального человека невозможно себе представить». Она же возразила: «А Сталин?». Меня чуть не хватил удар: Сталин — идеальный человек!? Но, конечно, я прикусила язык и быстро возразила: «Я имею в виду выдуманную личность». Она милостиво согласилась, что трудно себе представить абстрактного идеального человека. Но таких, повторяю, было у нас очень мало.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: