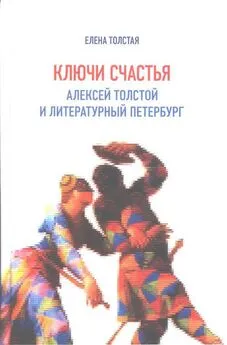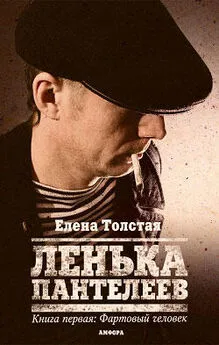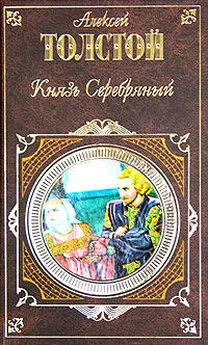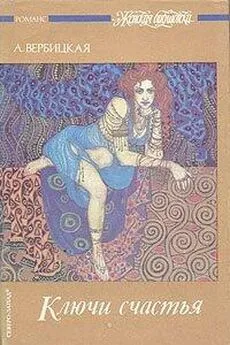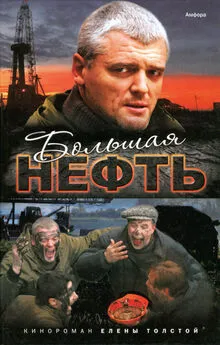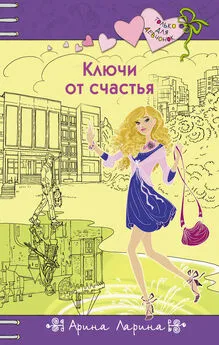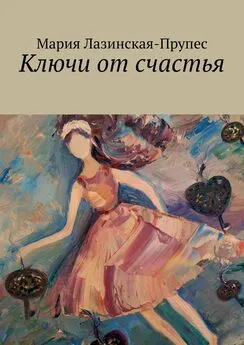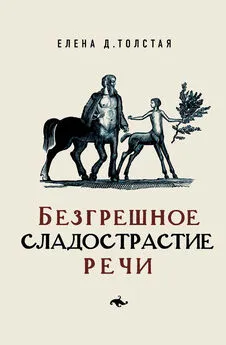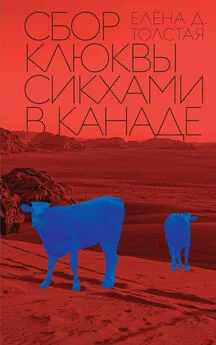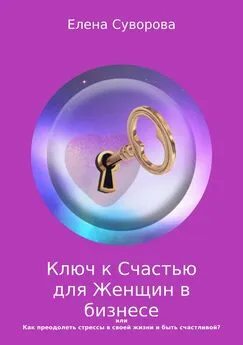Елена Толстая - Ключи счастья. Алексей Толстой и литературный Петербург
- Название:Ключи счастья. Алексей Толстой и литературный Петербург
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:2013
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-0007-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Елена Толстая - Ключи счастья. Алексей Толстой и литературный Петербург краткое содержание
Настоящее исследование Е. Толстой «Ключи счастья» посвящено малоизвестному раннему периоду творческой биографии Алексея Николаевича Толстого, оказавшему глубокое влияние на все его последующее творчество. Это годы, проведенные в Париже и Петербурге, в общении с Гумилевым, Волошиным, Кузминым, это участие в театральных экспериментах Мейерхольда, в журнале «Аполлон», в работе артистического кабаре «Бродячая собака». В книге также рассматриваются сюжеты и ситуации, связанные с женой Толстого в 1907–1914 годах — художницей-авангардисткой Софьей Дымшиц. Автор вводит в научный обиход целый ряд неизвестных рукописных материалов и записей устных бесед.
Елена Д. Толстая — профессор Иерусалимского университета, автор монографий о Чехове «Поэтика раздражения» (1994, 2002) и Алексее Толстом — «Деготь или мед: Алексей Толстой как неизвестный писатель. 1917–1923» (2006), а также сборника «Мирпослеконца. Работы о русской литературе XX века», включающего цикл ее статей об Андрее Платонове.
Ключи счастья. Алексей Толстой и литературный Петербург - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
<���Приходится рассказать случай, перешедший в анекдоты этой школы. У меня была тяга к монументальным формам, а с другой стороны, к детальному изучению богатства цвета каждого клочка поверхности холста. Эта способность часто шла в ущерб простому понятию, что [,] собственно [,] ты изображаешь, и к дроблению цвета.> Так, мне понравился у модели живот. <���В увлечении я его так разделала> Не заботясь о контурах, дающих понятие о животе, я его обработала с большим увлечением. Впечатление же от него получилось — тир, вделанный в прекрасный витраж. Бакст, увидев этюд, удивленный, заявил, но я ведь вам поставил живую модель, а не тир для стрельбы [17] Юлия Оболенская в своих воспоминаниях о школе Званцевой также упоминала Софью Дымшиц, в частности, и эпизод с пупком: «<���…> в своем смирении перед необъятностью живописных задач никто не брался за изображение целой фигуры, а старались лучше сделать небольшую часть в увеличенном виде, но извлечь из нее maximum выразительности. Так, зашедшие однажды в класс Алексей Толстой и Максимилиан Волошин никак не могли понять, какую часть тела изображал этюд Софьи Дымшиц, и только центр, обозначенный точкою среди громадного холста, заполненного мозаикой различных цветовых пятен, навел их на мысль, что они видят изображение живота». Оболенская Ю. Л. (1889–1945), художник-график, вторая жена К. В. Кандаурова, в своих мемуарах отметила, что жизнь Софьи Дымшиц была иной, обособленной от жизни студийцев и более тесно связанной с жизнью супруга, а через него — с жизнью литературной и художественной богемы Петербурга (Оболенская 2002: 201–204).
Мое смущение было очень велико, тем более, что моя индивидуальность не укладывалась в дисциплину школы. Однако Бакст не обескуражил меня, а <���сказал Алексею Ник[олаевичу] Толстому> считал меня <���талантливым> художником с индивидуальным уклоном. Он в этом направлении и развивал меня. Подобный случай был и с худ<���ожником> Шагалом, учеником этой школы. Шагал не только «выжимал» цвет из натуры, но он его и утрировал. Если модель при соответствующем фоне имела зеленоватый тон, он делал модель ярко-зеленой. Бакст в пледе, изящно грассируя, говорил[:] «ведь я вам поставил модель [—] кхасивую девушку, а вы изобхазили „хусапку“», и заключал «пходолжайте в том же духе». В результате, когда Бакст был приглашен в Париж ставить «Шехерезаду» [18] Одноактный балет Н. Римского-Корсакова по его симфонической сюите «Шехеразада», поставленный М. Фокиным в декорациях и костюмах Л. Бакста в Париже в 1910 г. в рамках дягилевских «Русских сезонов».
, он пригласил к себе в помощники именно Шагала, <���не ученика>, и дал ему возможность развиться в известного художника. Добужинский <���согласованно с Бакстом> развивал у нас способность замечать характерное в модели и дов[одить] рисунок до объемного силуэта. Петров-Водкин заменил Бакста после его отъезда в Париж. Петрову-Водкину мы обязаны в изучении <���понимании контрастов> цветовых контрастов. Мне трудно было следовать этой дисциплине, так как любовь к мельчению цвета, к перламутровой гамме <���была> мне свойственна, и обобщить одним цветом модель мне казалось бедно. Думаю, что школа Званцевой имеет право на то, чтоб на ней остановиться, так как она дала ученикам, кроме изучения дисциплин, еще [и] большую культуру. Московская художница Оболенская Ю. Л. в свое время об этой школе сделала доклад в Музее Западного Искусства [19] Она работала там научным сотрудником в 1930-х гг.
(Дымшиц-Толстая рук. 1: 1–4).
Жемчуга Алексея Толстого
В первые годы в Петербурге Толстой, как уже сказано, вместе с наезжавшей к нему из Самары матерью участвовал в каких-то весьма периферийных литературных кружках (например, в 1903 году бывал на четвергах З. Ю. Яковлевой [20] Яковлева (урожд. Рушиц) Зоя Юлиановна — писательница конца XIX в., в 1899 г. был опубликован сборник ее повестей и рассказов, а драма «Поздно» шла на сцене. Тэффи вспоминала про «старую писательницу Зою Яковлеву, собиравшую у себя литературный кружок», где еще находились недовольные декаденты, не желающие признавать Бальмонта замечательным поэтом.
, посещал до 1906 года кружок «Журнала для всех» [21] Этот петербургский кружок (он же — кружок B. C. Миролюбова) объединял в 1896–1906 гг. писателей-реалистов: М. Арцыбашева, В. Муйжеля, С. Скитальца, С. Юшкевича и др.
) и в ранних стихах показал вполне низовую художественную ориентацию. Новые же устремления его запечатлел стихотворный сборник «Лирика», вышедший в начале 1907 года, еще в разгар их тайного романа с Соней, ей же и посвященный — правда, без указания имени: «Тебе, моя жемчужина» (Смола 1985а; Гончарова 1995).
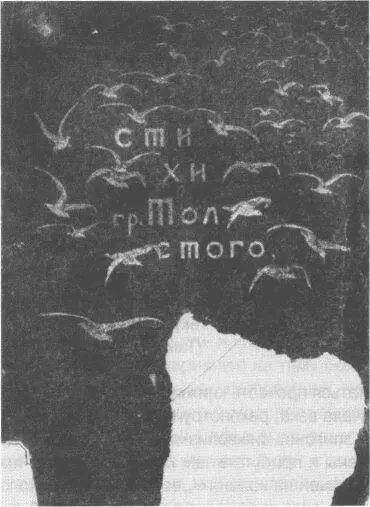
Первая книжка. Обложка К. П. Фан-дер-Флита
Книжку помог выпустить дальний родственник, энтузиаст новой поэзии (и поэт), чиновник Константин Фан-дер-Флит, который даже сам нарисовал к ней «беспредметную» обложку. О Фан-дер-Флите Толстой вспоминал в очерке «О себе» в 1929 году:
У него нехватало какого-то пустяка, винтика, чтобы стать гениальным в любой области — в этом я до сих пор твердо уверен. Он познакомил меня с новой поэзией — Бальмонтом, Вячеславом Ивановым, Брюсовым. В мезонине, в жарко натопленной комнатке, почти касаясь головой потолка, он читал стихи. Он говорил о них, выворачивая губы, по штукатуренным стенам металась его усатая, бородатая тень — он чорт знает что говорил. На верстаке, рядом с лампой, стояла построенная им модель четвертого измерения. Закутываясь дымом, он впихивал меня в это четвертое измерение.
В 1907 году я начал писать жестокие стихи и бегал их читать на мезонин к Константину Петровичу — вывертывался наизнанку, чтобы он их похвалил (ПСС-13: 557).
Этот персонаж чрезвычайно напоминает Н. Кульбина и его будущую роль катализатора художественных новаций при собственном нереализованном потенциале, в сочетании с профессиональной деятельностью в сфере, далекой от искусства, и теософско-«научными» увлечениями.
В «Лирике» почти не осталось следа от клише низовой леворадикальной поэзии 1905 года. Толстой здесь открывает поэтическую современность, то есть подпадает под влияние Андрея Белого и Бальмонта, мотивами, ритмами и интонациями которых проникнут этот сборник. Задают тон подражания космическим фантазиям Андрея Белого, например:
Подо мною небо в алой багрянице,
Вырастают крылья, крылья белой птицы,
Небо все в рубинах.
Знойными руками разорвал я ткани,
Я купаюсь в алом, я дышу огнями,
Я в моих глубинах.
Свободная строфика также заимствована у Белого:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: