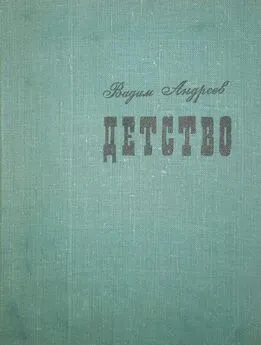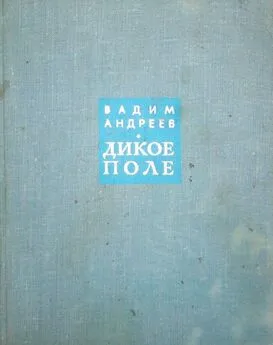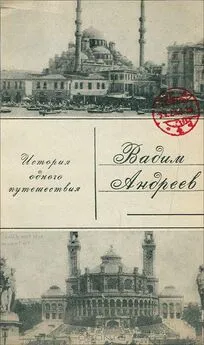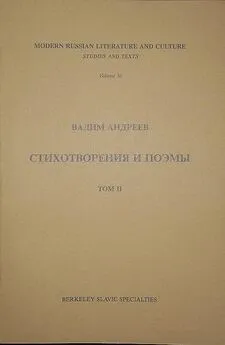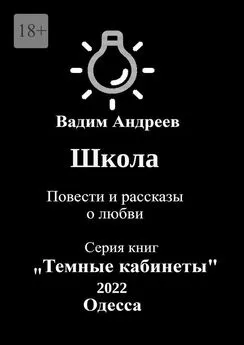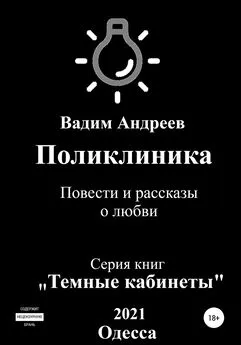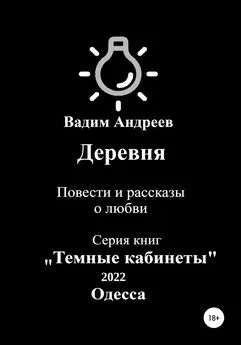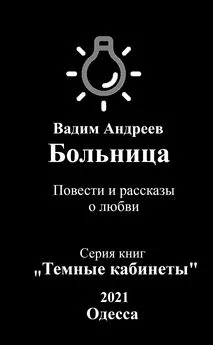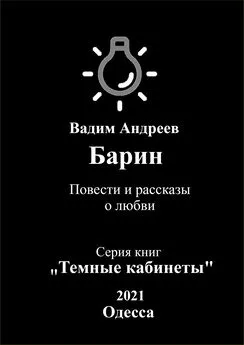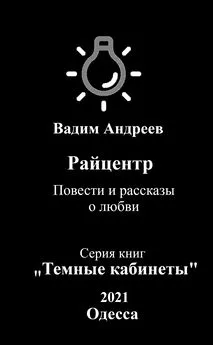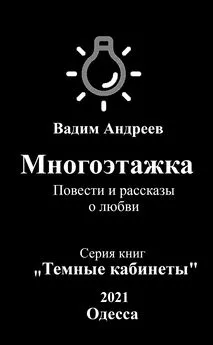Вадим Андреев - Детство
- Название:Детство
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1963
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вадим Андреев - Детство краткое содержание
В этой книге старший сын известного русского писателя Леонида Андреева, Вадим Леонидович, рассказывает о своем детстве и о своем отце. Автор начинает свои воспоминания с 1907 года и кончает 1919 годом, когда Л. Н. Андреев скончался. Воспоминания вносят денные штрихи в характеристику Леонида Андреева, воссоздают психологический портрет писателя, воспроизводят его отношение к современникам.
Автору удалось правдиво обрисовать исторический фон, передать умонастроение русской художественной интеллигенции в канун и в период Великой Октябрьской революции.
Детство - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Пани Грушевеньская, туго затянутая в огромный корсет, выпиравший из-под платья в совершенно ненадлежащих местах острыми ребрами, была приторно любезна, чванлива и скупа. Поправляя постоянно сползавший набок рыжий парик, из-под которого выбивались клочки жиденьких серых волос, смешивая русскую и польскую речь, она подробно рассказывала мне в первый же день нашего знакомства о том, что род Грушевеньских самый древний в Польше, древнее Потоцких и Радзивиллов, что ее фамилия пишется с мягким знаком — вернейшее свидетельство королевского происхождения, и что если ее покойный муж был всего лишь начальником маленькой железнодорожной станции на юге России, а не претендентом на польский престол, то это объясняется исключительно происками врагов. Сыновья пани Грушевеньской, побывав на фронте и увидев, что настоящая война мало похожа на войну, изображенную Генрихом Сенкевичем, и что подвиги коротконогого пана Володыевского им не по плечу, сумели устроиться в спокойной тыловой обстановке — кто в земгусарах, кто просто так, изловчившись, использовав как надо всевозможные отсрочки.
В доме Грушевеньских книг не было. Единственная книга, которую я нашел в буфете между тарелками и судками, была вторая часть двухтомного издания «Тысячи и одной ночи» в переводе столь тусклом и столь прилизанном, что от арабских сказок оставалось одно заглавие. Вообще о книгах, за исключением учебников да произведений Игоря Северянина и Вербицкой, никто не говорил — книга принималась как зло, иногда неизбежное, но от которого лучше держаться подальше. Кроме меня у пани Грушевеньской были другие квартиранты. Жильцов, главным образом студентов, она принимала с большим разбором: допускались только те, чьи родители были достаточно состоятельны для того, чтобы плата за комнату не опаздывала ни на один день.
Я, вероятно, не выдержал бы жизни под опекой пани Грушевеньской, если бы мне не удавалось довольно часто уезжать домой, на Черную речку. В тех случаях, когда отец приезжал в Петербург, я бывал в гостинице «Франция» на Морской улице. Несколько раз он брал меня с собой в театр. Особенно отчетливо я помню премьеру в Александринке «Того, кто получает пощечины». За кулисами, между толстыми веревками, в кольца скрученными на полу и уползавшими длинными змеями вверх, в мрак театрального неба, прижавшись к деревянным ребрам декораций я в маленькую дырочку следил за последней сценой пьесы. Когда опустился занавес и оттуда, из невидимого зала, донеслись аплодисменты, крепчавшие с каждой секундой, и хаос возгласов и звуков покрыл длинный, как будто состоявший из одной только буквы «а», крик «автора», мимо меня пронесли широкие лавровые венки, похожие на морские спасательные круги. Потом на сцену вышел отец в черной суконной рубашке, с развевавшимся на сквозняке черным шелковым галстуком. Крик «а-а-а» наполнил театр с такой интенсивностью, что мне стало трудно дышать. Отец возвращался за кулисы взволнованный, с побледневшим и строгим лицом, и выходил снова раскланиваться. В один из своих выходов (в тот вечер его вызывали четырнадцать раз) он заметил меня и в последнюю минуту, прежде чем я успел сообразить, что он хочет сделать, взял за руку и вывел с собой на сцену. На мгновение я увидел мягкую, глубокую темноту зрительного зала, розовые пятна лиц и, опустив глаза, заметил, что черный нитяной чулок на моей правой ноге спустился безобразной гармоникой. Я сразу оглох и ослеп, как будто мне на голову надели толстый черный мешок, и, покраснев, со слезами на глазах, пятясь и спотыкаясь, ретировался за кулисы. Это было моим первым неудачным выступлением перед публикой.
Поселившись у пани Грушевеньской, томимый одиночеством, я, естественно, попытался часто бывать у Рейснеров. Но на второе или третье мое посещение произошел случай, уже навсегда, на всю жизнь, отдаливший меня от Екатерины Александровны.
Вечером, за чайным столом, когда очередной гость, окончательно затурканный обрушившейся на него Екатериной Александровной, в защиту — я уже не помню, какого литературного события, — произнес имя отца, он получил в ответ неожиданную для меня по резкости реплику о том, что Леонид Андреев уже больше не Андреев, что все, что он теперь пишет, — ерунда, что единственным двигателем его творчества в настоящее время являются деньги, деньги и еще раз деньги. Когда гость, старый студент с большой окладистой бородою, придававшей ему странное сходство с Александром Третьим, посмотрел на меня, Екатерина Александровна, перехватив взгляд, сказала спокойно, даже с известной гордостью:
— О, Вадим достаточно независим для того, чтобы при нем можно было говорить свободно об его отце.
С чувством глубочайшего стыда и в то же время польщенный, я молча кивнул головой. Возвращаясь поздно вечером домой, в трамвае, я вновь переживал всю сцену за столом, вспоминал окладистую бороду студента, слышал уверенный голос Екатерины Александровны и, главное, видел себя, тринадцатилетнего мальчика, чинно сидящего за чашкой чая, в крахмальных манжетах, в сияющем воротничке, молча соглашающегося на то, чтобы в его присутствии обвиняли его отца в самом отвратительном для писателя преступлении — в работе исключительно ради денег.
После этого случая я ни разу не был у Рейснеров, хотя часто, особенно вначале, пока я еще не влюбился в нашу гимназическую жизнь, меня тянуло к ним — ни Екатерины Александровны, ни Игоря я не переставал любить.
Спасением от одиночества была гимназия Лентовской. В дореволюционном Петербурге это было одним из лучших, если не лучшим среднеучебным заведением. Здесь я встретил настоящих живых людей, которых не было в окружении пани Грушевеньской, нашел настоящую дружбу, которая создается только между тринадцатилетними подростками, почувствовал радость настоящей жизни. Однако вскоре, в середине октября, я надолго, почти на два месяца, был оторван от гимназической жизни: я заболел, очень тяжело, скарлатиной.
Рождественские каникулы я проводил дома, на Черной речке. Под самый новый, 1916 год я поехал в гости к социал-демократу Иорданскому, впоследствии бывшему полпредом в Италии, а в то время редактору толстого журнала «Современный мир». Жил он верстах в пятнадцати от нас в местечке Нейвола, в той самой финской деревушке, где в 1914–1915 годах жил Горький, в 1917 году у Бонч-Бруевича бывал Ленин и где в 1919 году умер мой отец. Здесь ночью в лесу, озаренном мерцающим светом, началась моя первая взаимная любовь. Ей было столько же лет, сколько и мне, — тринадцать. На другой день после нашей ночной прогулки, когда я так и не решился объясниться в любви, я заболел воспалением легких. Воспаление было не серьезным. Я лежал в кровати, на дворе была новая ночь, в крепко замерзшем окне, между ледяными пальмами и снежными ветками фантастических деревьев, дробились лунные лучи. Мои глаза привыкли к сумеркам, наполнявшим комнату, и я различал простые, дощатые стены, низкий четырехугольный потолок, деревянный стол у моей кровати со стоявшим на нем граненым, как будто светящимся изнутри, графином с водой. Она была за стеной в соседней комнате. Снизу к нам на второй этаж доносились возгласы и шум голосов — в тот вечер у Иорданских были гости: мой соперник Демьян Бедный (мне казалось, что он тоже ухаживает за нею, и я его за это ненавидел и презирал), Бонч-Бруевич, Стеклов и, кажется, Каменев. В круглую дырочку выскочившего из доски сучка я говорил о любви. Она мне ничего не отвечала, и мои слова, опаленные жаром болезни, растворялись в сумерках комнаты. Я даже не знал, слышит ли она о том, что я говорю, но, уже раз начав, я не мог остановиться. Темная лермонтовская музыка овладела мною и заставляла меня произносить слова, от которых меня бросало то в холод, то в жар. Кружилась голова, с каждой минутой все ярче светился графин на столе — лунный луч, скользя по шершавым доскам, касался граней стекла, оживляя и озаряя их голубоватым светом. И вот, когда я уже потерял надежду услышать ее ответный голос, скрипнула дверь — звук был прозрачен и легок, он наполнил всю комнату пением туго натянутой струны, которой случайно коснулись пальцами. Она вошла ко мне. Ее ночное одеянье казалось белым облачком, оно сливалось в сумерках комнаты с дымным воздухом, дрожа и тая. На груди дышала и двигалась черная живая коса с вплетенной в нее черно-красной лентой. Медленно, переходя из света в тень и из тени в свет, как будто играя с лунными лучами, падавшими на нее, она подошла к моей кровати. Мои потрескавшиеся от жара губы почувствовали неизъяснимый холодок поцелуя первого поцелуя в моей жизни.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: