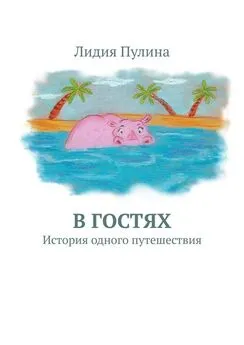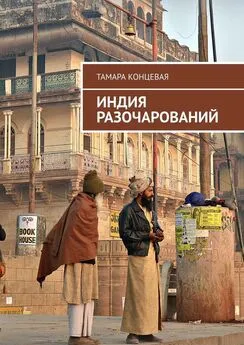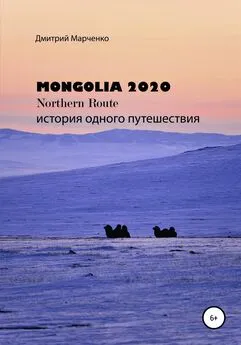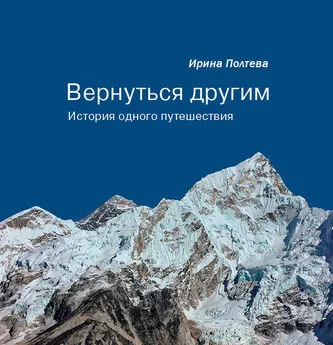Вадим Андреев - История одного путешествия
- Название:История одного путешествия
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1974
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вадим Андреев - История одного путешествия краткое содержание
Новая книга Вадима Андреева, сына известного русского писателя Леонида Андреева, так же, как предыдущие его книги («Детство» и «Дикое поле»), построена на автобиографическом материале.
Трагические заблуждения молодого человека, не понявшего революции, приводят его к тяжелым ошибкам. Молодость героя проходит вдали от Родины. И только мысль о России, русский язык, русская литература помогают ему жить и работать.
Молодой герой подчас субъективен в своих оценках людей и событий. Но это не помешает ему в конце концов выбрать правильный путь. В годы второй мировой войны он становится участником французского Сопротивления. И, наконец, после долгих испытаний возвращается на Родину.
История одного путешествия - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Когда в начале февраля нас перевезли в Софию, показавшуюся мне после Константинополя совсем маленьким городом, одиночество мое стало еще более полным. Монархический дух Софийской гимназии, свято сохранявший сословные предрассудки царской России, был невыносим. Гимназическое начальство находилось в оппозиции к содержавшему его правительству Стамболийского, слишком либеральному на его вкус, интриговало, стараясь добиться больших ссуд, а неудачи вымещало на учениках, вводя казарменную дисциплину. Мне все же иногда удавалось пробираться тайком в университетскую библиотеку, закрытую для учеников средних учебных заведений. К сожалению, русский отдел перестал пополняться с 1914 года, и книг, которые меня тогда интересовали, было мало.
Учеников, приехавших из Константинополя, поселили в бараках «срещу гарата», то есть против железнодорожного вокзала. Бараки были построены на скорую руку, и в уборную нам приходилось бегать «сажень за сто с чердака», пересекая вокзальную площадь, запруженную всевозможными повозками, на вокзал. На вокзале выдавалась также еда. В солдатских котелках уже остывший по дороге обед мы приносили к себе в барак. Кормили нас макаронами, отличавшимися от константинопольских тем, что были они тонки и крепки, как хорошая бечева.
Плохие отношения с гимназическим начальством создались не только у меня, но и у всех учеников, приехавших из Константинополя. За нежелание подчиняться правилам училища нас решили наказать, и когда на выступление Тамары Карсавиной в Софийском театре была приглашена вся гимназия во главе с директором, то наша константинопольская группа получила предупреждение: ей запрещалось посещение театра даже в индивидуальном порядке, то есть за собственный счет. В то же время было сказано, что вообще ученикам разрешения на посещение театральных зрелищ могут выдаваться только в исключительных случаях и по специальному ходатайству родителей. Последнее условие было издевательством: ни один ученик из нашей группы уже давно не имел связи с родителями, либо оставшимися в России, либо пропавшими без вести.
Мы решили протестовать. С трудом собрав четырнадцать левов, мы купили букет, правда, не слишком красивый, но зато довольно внушительных размеров, Сосинский нарисовал карточку с лебедями и зеленым озером, а в несколько высокопарном тексте было сказано, что этот букет «нашей лучшей балерине» преподносит группа учеников, которую гимназическое начальство лишило возможности увидеть «умирающего, но бессмертного лебедя». Делегатами выбрали Пфефермана и меня. У Пфефермана был довольно сносный костюм, а меня одели сообща: брюки оказались коротковаты, чужие башмаки немилосердно жали, но темно-синий пиджак, который я полдня чистил на пару, сидел вполне прилично. Наша задача состояла в том, чтобы пройти артистическим входом, пользуясь букетом как пропуском, а в антракте на сцене поднести его Карсавиной.
Предприятие увенчалось полным успехом: швейцар принял нас за посыльных из магазина и, думая, что мы оставим букет в ложе Карсавиной, пропустил нас, а мы, пренебрегая указанным нам коридором и проплутав некоторое время таинственными й пыльными закоулками театральных кулис, прислушиваясь к звукам оркестра, вышли к самой сцене. Скрытые от зала каким-то бутафорским деревом, мы недолго ждали антракта — край занавеса, видимый из нашего убежища, побежал к середине сцены, и на нас обрушился оглушительный грохот аплодисментов.
После того, как занавес сомкнулся в третий раз, было пора идти на сцену. У Пфефермана приросли ноги к полу, и он лишился возможности двигаться. Сунув мне в руки букет, — поначалу было решено, что букет поднесет Пфеферман, как обладатель лучшего костюма, — он свистящим шепотом сказал мне:
— Иди ты. Иди, лучше я здесь подожду.
Я взял букет и двинулся на сцену как раз в тот момент — вышло это случайно, — когда половинки занавеса расходились в четвертый раз, и уже на полпути с ужасом подумал: а что, если я ошибусь? Ведь Карсавиной я перед тем никогда не видел. Однако когда среди танцовщиц кордебалета я увидел маленькую черноволосую женщину, легкую и чем-то отличавшуюся от других, — не знаю чем, вероятнее всего простотою и естественностью движений, — я подошел к ней и, низко поклонившись, передал букет. Карсавина протянула мне руку, — удивительно: эта маленькая балерина, бывшая много ниже меня, протянула руку сверху вниз с обескураживающей грацией. Я был смущен, мне казалось, что весь театр, включая директора нашей гимназии, видит только меня, но все же догадался поцеловать руку. Зал грохотал от аплодисментов. Половинки занавеса сомкнулись в четвертый раз.
Карсавина, уходя за кулисы, сказала человеку во фраке, стоявшему неподалеку, чтобы меня (а заодно и Пфефермана) оставили в театре.
— Ведь я же написала, что хочу, чтобы всех учеников пустили на мой спектакль. Не понимаю, что они там напутали.
Из-за кулис, на этот раз уже не слишком прячась, я смотрел, как танцевала Карсавина «Умирающего лебедя». Я не видел декораций, половицы поскрипывали на сцене все движения Карсавиной представлялись мне в необычном ракурсе, но в моей памяти навсегда осталось то, как медленно склонялась ее маленькая голова в легкой короне из лебединых перьев, как в последнем движении, вперед, прямо к моим ногам, складывались трепещущие руки-крылья, как медленно, в последней легкой судороге, умирало бесплотное лебединое тело и закрывались уже потухшие глаза.
Букет, поднесенный Карсавиной, не прошел незамеченным: уже на другой день нам было сообщено, что вся группа бывших учеников Константинопольской гимназии будет через две недели отправлена в город Шумен, несмотря на то, что русская гимназия там еще не открылась. Так как с отъездом в марте месяце у нас пропадал весь учебный год — большего наказания все равно нельзя было придумать, — то, за исключением нескольких человек, на уроки мы перестали ходить — терять было нечего.
Чудо потому и чудо, что оно неожиданно. Такое чудо произошло со мной и в несколько минут перевернуло мою судьбу.
Среди гимназистов прошел слух, что в Софию приехал профессор Уиттимор, известный византолог и председатель комитета, созданного в Соединенных Штатах для помогли русским студентам, не окончившим курса. Я решил попытаться, — как-никак, а у меня в кармане лежал аттестат зрелости. В успех своего предприятия я не верил и пошел к Уиттимору только потому, что знал — если не пойду, сам себя потом буду ругать. Я узнал, что Уиттимор остановился в центре города, в лучшей гостинице Софии. Мне даже сказали, что его комната, номер 22, на втором этаже. Входную дверь охранял опозуменченный и похожий на идола швейцар. В парадную дверь мне пройти не удалось; впрочем, я понимал швейцара — моя фосфорическая шинель, которую я надел, несмотря на теплую погоду (френч выглядел еще хуже), слишком уж не соответствовала костюмам иностранцев, останавливающихся в гостинице. Пришлось отойти в сторону. Швейцар заметил, что я стою неподалеку, и не сводил с меня глаз. Но мне повезло — вскоре ему пришлось преградить дорогу сразу двум посетителям, отличавшимся от меня только тем, что их шинели сохраняли свой первородный серый цвет. Перепалка была горячая, — пока одна шинель заговаривала швейцару зубы, другая бросалась к двери, швейцар хватал ее за хлястик, а первая в одно мгновение оказывалась перед самыми дверями. Так повторилось два раза. На третий, прикрываясь фигурой почтенного толстяка в широком дождевике, я проскользнул в гостиницу и, не глядя по сторонам, поднялся по устланной ковром лестнице. Взлетев на второй этаж, я споткнулся, но, удержав равновесие, бросился в коридор. Перед глазами замелькали номера комнат — 20, 21, 22. Я решительно постучал. До меня донеслось заглушенное «ком ин», и хотя в моем сознании это слово превратилось в русское «камин», я вошел в комнату.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
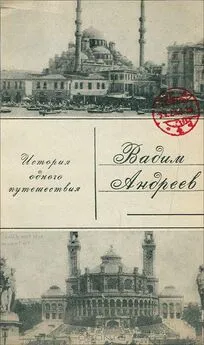

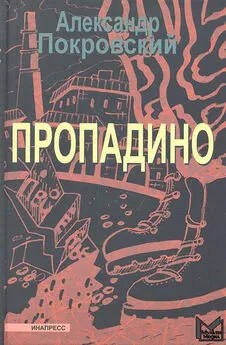
![Алексей Смирнов - Свиток первый - История одного путешествия [СИ]](/books/1086902/aleksej-smirnov-svitok-pervyj.webp)