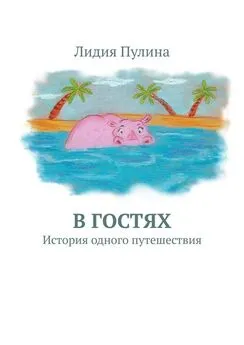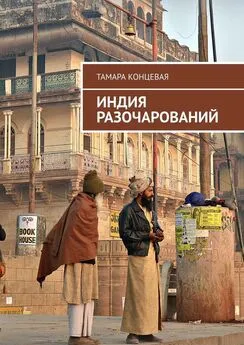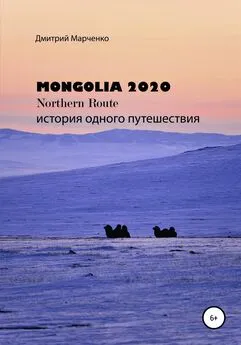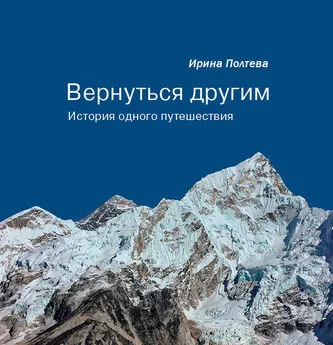Вадим Андреев - История одного путешествия
- Название:История одного путешествия
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1974
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вадим Андреев - История одного путешествия краткое содержание
Новая книга Вадима Андреева, сына известного русского писателя Леонида Андреева, так же, как предыдущие его книги («Детство» и «Дикое поле»), построена на автобиографическом материале.
Трагические заблуждения молодого человека, не понявшего революции, приводят его к тяжелым ошибкам. Молодость героя проходит вдали от Родины. И только мысль о России, русский язык, русская литература помогают ему жить и работать.
Молодой герой подчас субъективен в своих оценках людей и событий. Но это не помешает ему в конце концов выбрать правильный путь. В годы второй мировой войны он становится участником французского Сопротивления. И, наконец, после долгих испытаний возвращается на Родину.
История одного путешествия - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Эти строки были написаны Рошфором уже после смерти Сера, Ван Гога, Тулуз-Лотрека, Гогена, всего за три года до смерти Сезанна, когда вклад импрессионистов в историю мировой живописи стал бесспорным и молодые художники — Матисс, Боннар, Пикассо — уже начинали поиски новых, приходивших на смену импрессионизму, необычных форм.
Слова Рошфора — одно из многих свидетельств того, с каким трудом новая школа получала признание в умах консервативно настроенного общества, и если я привожу их, то лишь потому, что в нескольких строчках отразились все основные принципы неприятия непривычного в живописи: «Странный Сезанн» — странный, чтобы не сказать непонятный; если Сезанн прав, то больше не существует предшествовавшего ему искусства; и, наконец, казалось бы, логический вывод — если новое искусство утвердится, то нам только и остается, что уничтожить Лувр. Но вот не прошло и четверти века после того, как Рошфор написал свою статью, а Сезанн оказался в Лувре, прекрасно ужившись не только с Ватто и Фрагонаром, но и с Пуссеном, Жоржем де ла Туром и даже Клуэ.
Сопротивление всему новому в искусстве, всякому незнакомому «изму», возникает автоматически. Привычка к уже установленному и принятому вызывает отрицание новаторства: «переоценка ценностей» есть прежде всего труд, и гораздо легче жить, зная, что Эль Греко великий художник, а Модильяни «странный» новатор, в работах которого предубежденный взгляд зрителя не видит связи между художниками XVI и XX веков. Конечно, не всякое новаторство выдерживает испытание временем.
В отличие от политической революции, уничтожающей существующий государственный строй, революция в искусстве оказывается плодотворной лишь в том случае, если она не порывает связующих нитей с предшествующей эпохой. Когда русские футуристы собирались «сбросить Пушкина с парохода современности», они обрекали себя на полную гибель, и если они в конце концов и внесли вклад в историю русской литературы, то лишь потому, что лучшие из них поняли невозможность выжить без Пушкина, вне традиций всего XIX века. Новые формы в искусстве плодоносят лишь в том случае, если их корни уходят в глубину родившей художника культуры. Некоторые работы Пикассо — его собственное толкование картин Веласкеса и Курбе — попытка объяснить зрителю связь необычных форм, создаваемых художником, с классической живописью. Лишь после того, как новое течение бывает узнано и понято, как обнаружится связь с истоками национального духа, как становятся ясными причины, заставившие художника искать нехоженых путей, может быть дана верная оценка его творчества.
Я приехал в Берлин еще полный эстетических консервативных предрассудков, — сказывалось, что я прожил три года вдали от русской литературной жизни. В сущности, я был недалек от Рошфора и готов был повторить за ним: «Если Маяковский прав, то нужно уничтожить не только символистов, но всю русскую литературу XIX века». Символизм мне представлялся «крайней левой», уходившей в невнятицу, в анархию звуков. Только встретившись с Андреем Белым, я понял: то, что мне казалось невнятицей, на самом деле подчинено внутренней логике и становится ясным, когда с моей стороны появляется добрая воля, желание разобраться в таинственном сплетении звуков и слов. Я понял, что поступать так, как я поступал до сих пор, — открещиваться от всего нового словом «непонятно» — очень легко. Мое «непонятно» было лишь свидетельством моего собственного бессилия и недомыслия. Непонятная вещь — будь то картина, стихотворение или рассказ — может быть плохой или хорошей, но сказать, какая она, можно, только победив собственную леность мысли, отказавшись от предвзятых предубеждений, разобравшись в том, почему эта вещь возникла, что было стимулом ее создания — желание пооригинальничать или честное стремление высказать себя в той форме, вне которой автор не видел своего произведения.
Встреча с А. М. Ремизовым была для меня знаменательной — она многое прояснила во мне самом и помогла мне, так же как встречи с Андреем Белым, Маяковским, Пастернаком, выйти из литературного захолустья, в котором я еще находился.
Алексей Михайлович считал своим литературным крестным Леонида Андреева: по рекомендации отца была напечатана его первая вещь — «Плач девушки перед замужеством». Это причитание вошло впоследствии в его первую книгу «Посолонь». «Посолонь» я знал с детства, помнил ремизовские апокрифы и сказки. Однажды на Черной речке за обеденным столом — в тот день у нас было много приезжего народу, — я не помню, кто из гостей сказал, что Ремизова трудно читать, что он писатель для писателей. Эта ходячая формула мне почему-то запомнилась, и я в нее поверил. Кроме того, еще задолго до революции вокруг имени Ремизова начала создаваться легенда, затемнявшая его значение в русской литературе как очень своеобразного писателя. Когда произносили его имя, у меня в памяти возникала фотография, помещенная в каком-то иллюстрированном журнале: большой лоб, очки, всклокоченные волосы; воспроизведенные в том же журнале его рукописи — славянская вязь, каллиграфия, не рукопись, а рисунок, весь переплетенный завитками и росчерками. В статье, сопровождавшей портрет, подробно рассказывалось о чертиках, которых он клеил из разноцветной бумаги, о рыбьих костях, привешенных к потолку на нитках, о бархатных пауках и еще о какой-то непонятной фантасмагории, его окружавшей. Рассказывалось об учрежденном им «ордене» Обезвелволпале (Обезьянья Великая и Вольная Палата), в который посвящались чудаки, то есть люди, захваченные какой-нибудь бескорыстной страстью. Все это создавало впечатление несерьезной игры.
Впоследствии, в Париже, когда я сам поднялся по иерархической лестнице Обезвелволпала от кавалера до гундустанского посла и даже под конец стал обезвелволпальим маршалом, я понял, что все чудачества, так раздражавшие иных его читателей, действительно часть самого Ремизова, но только та внешняя часть его, которой он соприкасается с окружающим его миром, некий панцирь, прикрывавший его от злой жизни. Легко ранимый, всегда настороженный, с постоянной боязнью, что кто-нибудь, все равно кто — редактор журнала или случайный прохожий, — может причинить ему боль, он защищался от них шуткой, талантливой игрой в беспомощность, в жука, притворяющегося мертвым, когда чьи-нибудь грубые руки поднимут его с земли.
В Берлине, когда в 1922 году возникло сменовеховское движение и началась классификация на просоветских и антисоветских, А. М. Ремизов оказался стоящим в стороне: своим его не признавали ни те, ни другие. Он никогда не был человеком последовательной политической мысли и никогда не принадлежал к литературно-политическим группировкам, которые возглавлялись Гиппиус и Мережковским, журналом «Современные записки», газетами «Последние новости» и «Возрождение». В книгах, изданных в Берлине, а затем в Париже, он «величал» уходящую Россию, но величал, конечно, не царскую (в молодости Ремизов за принадлежность к социал-демократической партии был сослан в Вологду), а то в России, что, по его мнению, было прекрасным, русского человека, открытого, как ни один другой человек, чувству сострадания, сознающего не только свою, но еще больше — чужую боль.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
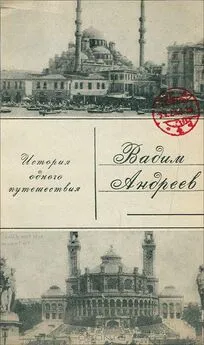

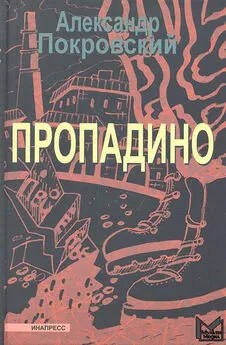
![Алексей Смирнов - Свиток первый - История одного путешествия [СИ]](/books/1086902/aleksej-smirnov-svitok-pervyj.webp)