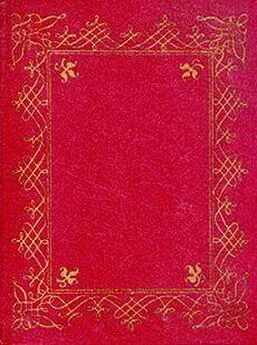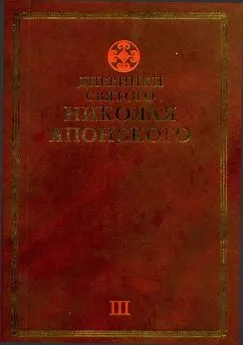Николай Японский - Дневники св. Николая Японского. Том Ι
- Название:Дневники св. Николая Японского. Том Ι
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Гиперион
- Год:2004
- Город:СПб
- ISBN:ISBN 5-89332-090-5 ISBN 5-89332-091-3 (1 т.)
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Японский - Дневники св. Николая Японского. Том Ι краткое содержание
Настоящее пятитомное издание представляет собой первую полную публикацию огромного дневника, который на протяжении всей своей жизни вел основатель русской Православной миссии в Японии архиепископ Николай Японский (1836–1912). Приехав в Японию в возрасте 24 лет, о. Николай в течение пятидесяти лет занимался миссионерской деятельностью. Им были основаны семинария, школы богословия, иконописная мастерская. В совершенстве изучив японский язык, он перевел для своих прихожан–японцев Священное Писание. Когда он скончался, японская православная община насчитывала 34000 человек, и это его прямая заслуга. Помимо миссионерской деятельности о. Николай проявил себя и как незаурядный ученый, оставивший в своих дневниках уникальные этнографические материалы о Японии, зафиксированные им во время своих многочисленных путешествий по стране — от деревни к деревне, где жила его паства. В Японии отец Николай пользовался и пользуется необычайной известностью, а его заслуги — всенародным признанием. Интерес к нему появился и в России, особенно после его канонизации русской Православной церковью (10 апреля 1970 г.).
Первый том дневников охватывает период с 1870 по 1880 гг.
Под редакцией Кэнноскэ Накамура
Исходный pdf - http://mirknig.com/knigi/religiya/1181616647-dnevniki-sv-nikolaya-yaponskogotom-1.html
Дневники св. Николая Японского. Том Ι - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Дневник Николая Японского находится в Российском Государственном Историческом Архиве (ф. 834, оп. 4), где он в 1979 г. был обнаружен японским профессором Кэнносукэ Накамура. Его усилиями инспирировано несколько изданий фрагментов из дневника отца Николая, появившихся в последнее десятилетие в России и Японии, и настоящее издание полного текста, который публикуется по машинописи, предоставленной издательству «Гиперион».
Не имея возможности сверить машинопись с автографом, нам трудно судить о степени ее текстологической достоверности. Однако, в ряде случаев работа текстологов заставляет желать лучшего. Например, близкий друг отца Николая К. В. Белявский прочитан в некоторых местах, как «Белевский», а французское слово pendant, ни мало сумняшитесь воспроизведено кириллической абракадаброй «репдан». Часть фамилий так и остались не расшифрованными и стоят под вопросом («Ракочий?», или болгарская королева «Раина?»). Некоторые, недописанные в тексте дневника, фамилии, например, знаменитая фамилия Мордвинов или фамилия знакомой отца Николая — Солодовниковой подготовители дневника посчитали полными, и в расшифровке появились «Мордвин» и «Солодова». Иногда вторжение в текст дневника превышает текстологические полномочия. Например, расшифровка инициалов в прямых скобках, и часто неверная, только затрудняет понимание текста. В то же время непрочитанные места не фиксируются знаком конъектуры (<���…>) и не указывается в скобках необходимое по текстологическим нормам количество непрочитанных слов или хотя бы пометы «нрзб.». В таких случаях остается непонятным — имеем ли мы дело с испорченным текстом или с непрочитанным текстологами фрагментом, или со смысловой лакуной самого автора.
Между тем, уровень работы текстологов нельзя не учитывать при составлении Именного указателя. Следует иметь в виду, что дневник перенасыщен именами людей, с которыми отец Николай встречался в столицах и в провинции. И неточное прочтение фамилий расшифровщиками рукописного текста создает понятные трудности (а порой и невозможность) в идентификации персонажей.
Сложности создает и сам тип дневника. Дело в том, что существует два типа дневников. Первый — ориентирован на публичность. Его автор рассчитывает, если не на прижизненную публикацию (или чтение в кругу друзей и родных), то, осознавая его культурно–историческую или литературную значимость — на сохранение его для будущих поколений. Второй тип дневника — это дневник, который ведется исключительно для себя, чтобы со временем или по необходимости обратиться к тем или иным событиям, восстановить в памяти фамилии людей, даты и т. д. В таком дневнике записи не подвергаются литературной обработке, а факты — перепроверке. Изложение событий в нем может быть отрывочным и сумбурным, записи стилистически невнятными, слова (в том числе и фамилии) порой сокращенными и недописанными, при фамилиях отсутствуют не только какие–то пояснения о служебной или сословной принадлежности, но и имена и отчества. Именно к такому типу и принадлежит дневник отца Николая.
Дополнительные сложности для идентификации упомянутых в дневнике лиц создает, во–первых, тот факт, что фамилии, воспроизводятся отцом Николаем на слух (Опухтин, вместо Апухтин, Осланбеков — Асланбеков, Вячтомов — Вечтомов), а имена и отчества по памяти. Возможно по этой причине (или в процессе перепечатки) «Александр Алексеевич» становится «Алексеем Александровичем», «Константин Илларионович» — «Константином Платоновичем» и т. д. В ряде случаев ошибка принадлежит даже не автору дневника, а третьему лицу. Например, в рассказе владыки Исидора о конфузе при ритуале рукоположения один и тот же священник назван то Макарием Воронежским, то Александром Воронежским, но таких иерархов в указанные годы не существовало.
Во–вторых, к отцу Николаю часто приходили и незнакомые жертвователи, и в дневнике иногда появляются записи типа: «какая–то Ершова», «некто Бороздин», установить личность которых точно — невозможно.
Наконец, идентификацию лиц осложняют также: омонимия имен, присвоенных священнослужителям, и отсутствие инициалов для известных дворянских фамилий (Голицыны, Чернышевы, Бобринские и др.) и для многочисленных столичных и провинциальных «знакомых» отца Николая (Арсеньев, Богомолов, Горбунов, Поляков, Попов). Иногда у близких друзей и родственников отсутствуют и фамилии (Александра Петровна, Илья Иванович, Матвей Иванович и т. д.).
В сочетании с возможными (а иногда и очевидными) ошибками при расшифровке фамилий (временами одна и та же фамилия приводится в машинописи в разных вариантах: Жевердеев — Жевержеев, Петров–Батурич — Петров–Батурин) комментаторская работа требует не только огромных дополнительных разысканий, но и иногда интуиции и находчивости. Отсюда, неизбежны догадки и предположения, не исключены и ошибки.
Конечно, вопросы, связанные с поисками сведений о рядовых священнослужителях (священниках, иеромонахах, келейниках, дьяках), а подчас и архимандритах, упоминаемых в дневнике, можно было бы (хотя бы отчасти) снять, подключив архивные разыскания, поскольку печатных справочников о такого рода духовных служителей на этот период времени недостаточно. Но составители Именного указателя, в силу ряда обстоятельств, оказались отрезанными от архивов. Из основных причин назовем тот факт, что фонд Синода сейчас практически недоступен. Невозможность занятий в других архивах была связана со срочностью работы и ограниченным сроком, который издательство выделило на комментирование этого непростого текста.
Мы стремились, по мере возможности, собрать максимально полную информацию о всех лицах и особенно о тех, с которыми чаще всего общался отец Николай, имея ввиду будущих биографов и издателей трудов отца Николая. Поэтому Именной указателей является и своеобразным комментарием к страницам дневника, а справки о лицах, в ряде случаев, составлены не традиционно. Если сведения о каким–либо персонаже отсутствуют, мы повторяем отца Николая, ставя после фамилии или имени, запятую: «Богоявленская, акушерка». В остальных случаях после тире приводим дефиницию; для монашествующих сразу после имени в скобках приводим имя в миру и даты жизни, а для светских лиц раскрываем инициалы и даем даты: «Агния (Баскакова) (1810–1888) — казначея Воскресенского первоклассного женского монастыря»; «Алферьев Василий Николаевич (1813–1898) — делопроизводитель Департамента личного состава и хозяйственных дел Министерства иностранных дел».
Как мы уже говорили, в тексте дневника отца Николая встречается множество одинаковых имен и фамилий без инициалов. Особенно это касается священников и монашествующих лиц — шесть отцов Александров, три Аркадия, шесть Арсениев, шесть Василиев, четыре Иннокентия, четыре Иоанна, три Иосифа, четыре Макария, четыре Митрофана, четыре Платона, пять Сергиев и т. д., не считая одноименных апостолов и святых. Заметим, что некоторые из них встречаются порой на одной странице дневника. Например, в записи от 20 марта 1880 г. упоминаются три разных Иннокентия. В подобных случаях, чтобы читатель мог их идентифицировать, мы, сразу после духовного имени, через запятую даем их определение из дневника отца Николая (например: «Иннокентий, митрополит», «Иннокентий, эконом», «Иннокентий, духовник» ), а потом через тире сообщаем имена в миру, даты жизни и другие необходимые сведения.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: