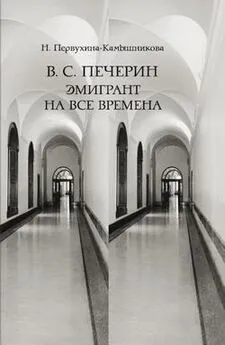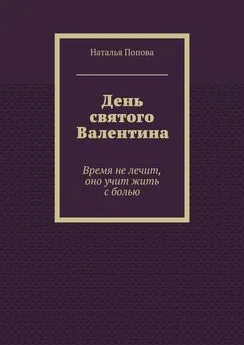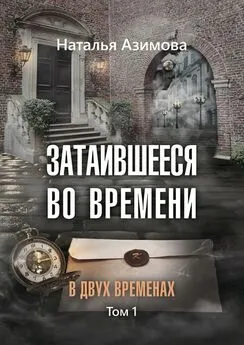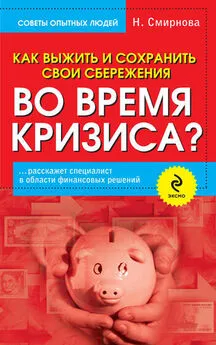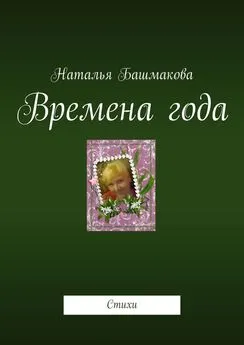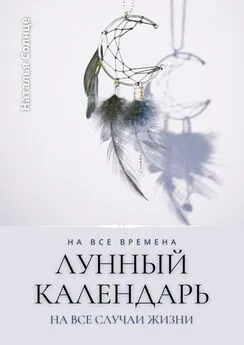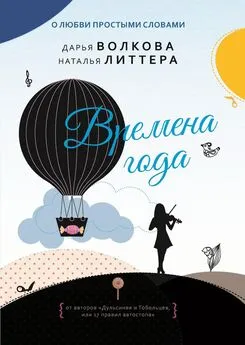Наталья Первухина-Камышникова - В. С. Печерин: Эмигрант на все времена
- Название:В. С. Печерин: Эмигрант на все времена
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Знак»5c23fe66-8135-102c-b982-edc40df1930e
- Год:2006
- Город:Москва
- ISBN:5-9551-0118-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Наталья Первухина-Камышникова - В. С. Печерин: Эмигрант на все времена краткое содержание
Владимир Сергеевич Печерин (1807–1885), поэт-романтик, демоническая фигура в «Былом и думах» Герцена, автор пародируемой Достоевским поэмы «Торжество смерти», «первый русский политический эмигрант» (Л. Каменев) и «один из первых русских интеллигентов» (В. С. Франк), русский католик, находивший опору в философии стоицизма, остался в памяти потомков, как он и мечтал, благодаря «одной печатной странице», адресованной России – автобиографическим заметкам, писавшимся в Ирландии в 1860—1870-е гг. и собранным в книгу «Замогильные записки. Apologia pro vita mea». В мемуарах Печерина отразилась история русской мысли всего XIX века, а созданный им автопортрет «лишнего человека» дополняет галерею образов классической русской литературы.
Настоящее исследование посвящено анализу сложного переплетения реального опыта Печерина с его представлениями о самом себе. Книга рассчитана на русского читателя.
В. С. Печерин: Эмигрант на все времена - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Повествование о. Проста дышит сознанием своей правоты и досадой на недооценку его усилий вышестоящими. В частности, он жалуется на неподготовленность молодых участников миссии, предпочитающих благодарную на его взгляд задачу произнесения проповедей трудоемким занятиям катехизисом с огромным количеством народа.
Отец Печерин, – пишет о. Прост, – был опытным проповедником, но он не отдавался делу целиком. Его очень любили, потому что он был полон любовью к бедным детям и часто хвалил их вслух, и такое отношение сказывалось в некотором невнимании к делу. Коротко сказать, он не проповедовал с необходимой серьезностью и энергией. Но он был очень обаятельный (Прост 1998: 37–38).
Миссионерская работа с детьми была особой частью деятельности миссии. О. Прост с гордостью описывает одну из миссий в Ливерпуле, где отцы-редемптористы (Печерина среди них на этот раз не было) проявляли заботу о духовном спасении детей. Так, они уделяли время для особых лекций «после того, как дети заканчивали работу на фабрике» (Прост 1998: 52). Детей было так много, что их исповедовали до полуночи десять священников. Дети, работающие на фабриках, шли к причастию рано утром, до работы, другие позже.
Выслушивание исповедей было самым тяжелым испытанием любви к человечеству. Достаточно вспомнить, как Печерин мечтал о красоте безмятежной монастырской жизни, чтобы оценить мужество, с которым он принял тяжесть возложенной на себя миссии. Желающие исповедоваться буквально заливали церковь, толпами влезая с ночи в окно. Открыв в 4 часа утра церковь, миссионеры находили ее уже запруженной народом. Исповедь выслушивалась в тесной исповедальне, иногда исповедален не хватало, и для этой цели использовались установленные на церковном дворе кареты. О. Прост пишет о том, что самоотверженность давалась нелегко: надо было преодолевать тошноту от страшной вони, исходившей от лохмотьев бедняков, и от вида крупных вшей, ползавших по ним. Возвращаясь домой, миссионеры должны были убедиться, что в их одежде не скрываются насекомые. После одной из таких миссий один из ее участников, тридцатитрехлетний о. Ван Антверпен, умер от тифа. Печерин в 1854 году перенес тяжелое кожное заболевание (вызванное, как сейчас выяснено, стафилококковой инфекцией), а в 1865–1866 годах – тиф, от которого с трудом оправился после нескольких месяцев, в течении которых находился между жизнью и смертью. Об этом он не пишет в Россию ни слова.
Когда читаешь повествование о. Проста (интересно, отмечал ли Печерин мысленно только ему понятный каламбурный смысл этого имени?), становится немного понятнее нежелание Печерина пускаться в описание повседневной реальности своей монашеской деятельности. Для его русского читателя поэтический образ «сна разума» был значительно понятнее и убедительнее, чем было бы описание тяжелейшего труда, сложнейших политических отношений в Ирландии, запутанных интриг внутри ордена.
О. Прост передает еще несколько эпизодов, касающихся Печерина. Однажды в Лондондерри, по завершении миссии, одна видная семья пригласила их отслужить обедню в семейной часовне. За службой последовал обед, после которого священники удалились в гостиную, оставив джентльменов с их обязательным послеобеденным виски. К священникам присоединились дамы. Один из редемптористов, умевший играть, сел за фортепиано. Разговор каким-то образом коснулся Марсельезы. О. Прост заметил, что никогда ее не слышал. Тогда «отец Печерин и отец Ван Антверпен вызвались ее спеть, а о. Коффин аккомпанировал им на фортепиано. "Тут я понял, – пишет о. Прост, – какое действие могла эта песня оказывать на людей. И слова и музыка ошеломляющие. Надо сказать, что некоторые части текста совершенно правильны, потому что поступки сильных и властных в последнее время были так ужасны, что они вызвали у людей гнев и ненависть"». «От истории языческой церкви, – рассуждает далее о. Прост, – ничего другого и ждать нельзя, но когда такое происходит в христианских землях, как свидетельствует история последних веков, сердце не может не восставать» (Прост 1998: 59–60). Знал бы Печерин, как легко ему удалось ввести отца Проста в революционный соблазн. А о чем он думал, о чем вспоминал, распевая с редемптористами Марсельезу? Может быть, именно простота и искренняя суровость таких служителей церкви, как отец Прост, примиряла Печерина с выпавшей на его долю деятельностью. Покуда он не видел алчности и не замечал борьбы честолюбий, жизнь в церкви представляла для него смысл. По свидетельству о. Проста, Печерин особенно много усилий прилагал к образовательной деятельности общества. Она включала обучение детей бедняков грамоте и занятия катехизисом. Хотя любовь Печерина к детям привлекала к нему сердца паствы, признания его в дневниковых записях свидетельствуют о растущем смятении, сомнениях и отчаянии, которые он скрывал ото всех.
Часть третья
«У меня необходимо две жизни: одна здесь, а другая в России»
Глава первая
«Миссионеры человеческой религии»
Печерин пробыл в ордене двадцать лет. После переезда в Лондон в 1848 году и до конца шестидесятых годов его жизнь состояла из напряженной миссионерской деятельности, изредка прерываемой особыми периодами уединения (retreats), когда один или несколько монахов в течение недолгого времени живут в каком-нибудь загородном доме, специально для этого отведенном, полностью посвящая время интенсивным духовным упражнениям. Это время особенно сурового поста, молчания, а также умерщвления плоти: трижды в неделю монах подвергал себя бичеванию.
В течение 1851–1853 годов Печерин почти половину времени проводил между Клапамом и Ирландией, а 27 марта 1854 года был переведен в Лимерик. Но до этого, в Клапаме, произошла его встреча с Герценом. Она оказалась самым судьбоносным событием его жизни, о чем он не подозревал – в культурной памяти России Печерину было суждено долго оставаться таинственным иероглифом на полях мемуаров Герцена. Но именно эта таинственность будила воображение читателей, привлекала к нему внимание историков культуры.
Герцену было сорок лет, когда переездом в Лондон осенью 1852 закончилась «самая ужасная часть» его жизни. Серию катастроф принес Герцену 1851 год. Сначала его потрясла связь жены, Натальи Александровны Захарьиной (1817–1852), с Гервегом, близким другом семьи, известным немецким поэтом и деятелем революционного движения. Понятия поруганной чести оказались сильнее всех теорий женского равноправия и свободного выбора, в измене Гервега Герцен увидел предательство чистоты революционных идеалов и мечтал об общественном суде над ним со стороны видных революционеров Европы. Планы такого суда, к счастью, не осуществились, и Герцену удалось не оказаться в смешном положении. В ноябре этого же года при кораблекрушении, вблизи Ниццы, утонули Луиза Ивановна, мать Герцена, и его маленький сын. Через пять месяцев, в мае 1852 года, скончалась Наталья Захарьина. Во Франции Герцена ничто больше не держало. Казалось, что жизнь кончена.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: