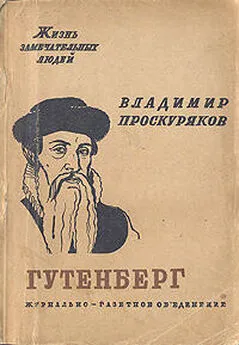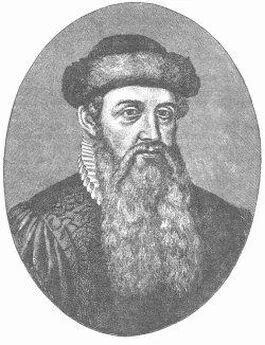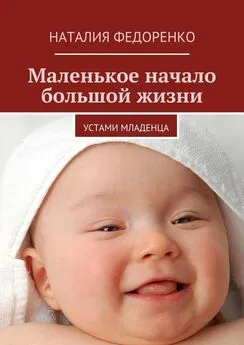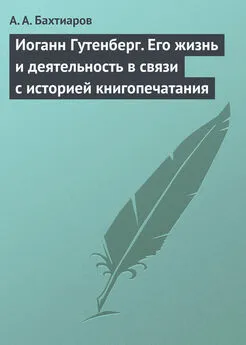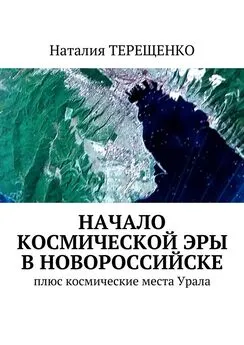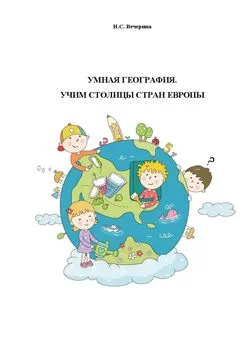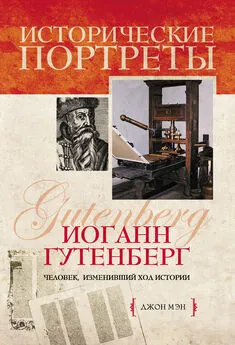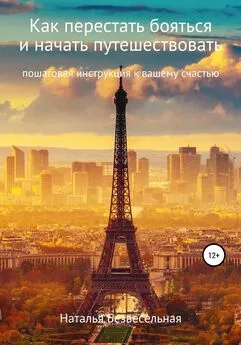Наталия Варбанец - Йоханн Гутенберг и начало книгопечатания в Европе
- Название:Йоханн Гутенберг и начало книгопечатания в Европе
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Книга
- Год:1980
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Наталия Варбанец - Йоханн Гутенберг и начало книгопечатания в Европе краткое содержание
Автору удалось пролить свет на многие загадки начала книгопечатания в Европе. Глубокий научный анализ и страстность в поисках истины позволили автору встать рядом с героем книги, проникнуть в скрытые пружины поступков его врагов и судей. Прослежена судьба типографий, шрифтов, изданий Гутенберга и его «конкурентов».
Второй герой книги — предреволюционное религиозное просвещение, фантастический мир Средневековья.
Монография Н. В. Варбанец — новое слово в истории книги. Представляет большую ценность для книговедов, историков. Увлекательна для библиофилов, для всех культурных людей, интересующихся историей книги.
Йоханн Гутенберг и начало книгопечатания в Европе - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Прежде всего: изобретение книгопечатания от других технических достижений отличалось тем, что не могло быть сделано в процессе производственной рационализации: оно требовало ремесленных (металло-технических) умений и знаний, которыми переписчики книг (равно как книжные ученые) не владели. Для ремесленного мира, включая его аристократию — ювелиров, даже художников, книга (если не считать сопутствующих производств: пергаменного, бумажного, переплетного) была предметом потребления. Тогдашняя книжная торговля никакой выгоды вкладывать деньги в изобретение способа многократно и единовременно повторять одну и ту же книгу подсказать не могла. Книжное дело, благодаря необходимым для него навыкам и знаниям и по его заземленности в идеологии, оставалось производством духовным и с миром ремесла — производства материального — не соотносилось. И этот разрыв предержащим властям светским и церковным был желателен. Поскольку по условиям задачи это изобретение могло быть сделано лишь «профаном», оно в ту пору из прямого служения церкви исходить не могло, сама эта мысль для такого человека была еретичной, тем более в отношении Библии. Последнее, кроме всего, нарушало мистическую прерогативу духовного сословия, что понятно лишь с учетом значения, какое в христианстве придавалось слову (хотя бы первый стих Евангелия от Иоанна: «Вначале было слово, и слово было у бога, и слово было бог»). В отличие от более ранних — X–XII вв., когда монахам и клиру отказ от litterae humanae — писаний человеческих для чтения и толкования «Священного писания» вменялся в заслугу, на данном этапе церковь (как институт, ибо люди в ней были разные) поощряла скорее обратное. Книгопечатание лишь впоследствии оказалось в русле ее интересов, в том числе цензурных (при рукописании требовалась проверка каждого списка, при тираже — одного экземпляра). В период, когда изобретение произошло, для того, чтобы состоялся стык необходимого для него технического умения с задачей тиража, нужна была заинтересованность владеющего этим умением ремесленника не в выгоде, а в распространении наиболее насущных с его точки зрения книг, т. е. причастность к идеологической борьбе эпохи, причем неизбежно — к позиции просветительской (иначе множественность экземпляров была не нужна), а потому — в удешевлении именно этих книг. Гутенберг был ювелиром, человеком вовсе не книжного мира. Чтобы такому человеку в то время прийти к мысли приложить свое умение к книжному делу, нужна была еще и подсказка среды, ставившей цели книжной пропаганды и обладавшей неким направлением книжного кругозора, связь изобретателя с теми мистическими сообществами мирян, которые ставили религиозно-просветительные цели, т. е. со строительством «церкви духовной». Оно предполагало неограниченное число экземпляров относительно небольшого подбора текстов (библейских и готовивших к чтению Библии — буквально или истолковательно), что само взывало к механизации. Так объяснимо, почему этот человек, в делах весьма трезвый, все состояние вложил именно в это, далекое от его житейской сферы и ставшее для него разорительным дело: для него оно было служением богу через служение людям, а, быть может, и скрытой формой обнищания (отказ от имущества тогда был — для несемейных — условием мистического «пути к спасению», отказы от него мирян преследовались; см. гл. I). Идея просвещения — проповеди через книгу — подсказывает сближать Гутенберга с подобными Братству общей жизни сообществами мирян, для которых переписывание отвечавших этой задаче книг было «добрым делом» — служением «человеческому спасению».
Вывод, что Гутенберг был монашествующим в миру, напрашивается сам: в отличие от нормального для всех, кроме монашества и клира, положения, он не имел ни жены, ни детей. И переломным можно считать «белое пятно» в страсбургском его пребывании — промежуток между 1434 и 1437 г. Так объясняется и неудача иска Эннелин zu der Iserin Tür о нарушении брачного обещания (см. гл. III). Переломность этого момента подтверждена и косвенно: мастеру, державшему учеников, — а они по правилам жили у него в доме, — полагалось иметь жену, которая должна была о них заботиться как хозяйка, с чем, видимо, и были связаны брачные намерения Гутенберга. Вместо этого наряду с отказом от Анны возник проект мужского общежительства («бурсы») при монастыре св. Арбогаста, на некий краткий период, видимо, осуществленный. Тот же момент — 1436 г. — указан (см. гл. III) как начало печатной деятельности Гутенберга или заготовки материала для нее. И встает вопрос — точно ли предпринимательское товарищество, а не скрытое под маской деловых соглашений вместе живущее и кормящееся общим трудом — трудом книжным — религиозное, типа бегино-бегхардовских и подобных, сообщество устраивал тогда Гутенберг? Уточнить, к какому именно течению монашествующих мирян он примыкал, вряд ли возможно: все это были оттенки одного движения, всеевропейски разветвленного, принимавшего местный отпечаток, частью сокрытого. Как схема для Братства общей жизни типичен общий труд и совместный быт, бегинская традиция допускала одиночность. Гутенберг после Страсбурга попыток организовать общину, по-видимому, не делал, по деятельности же он и нес «проповедь письмом», хотя «искусственным», и грамоте — но типографской — учил до конца. И в Голландии в какой-то момент — вероятно, между 1434 и 1436 г. — он, видимо, был, и в контакт с братскими общинами вступал: сведения «Кёльнской хроники» 1499 г. (тогда голландских приоритетных притязаний не было) о голландских донатах, давших прообраз его изобретению, вероятно, восходят к нему самому. Способ же печати этих донатов (с литых металлических пластин) скорее всего был найден именно в братских общинах — как приспосабливание ремесла своих членов (в данном случае ювелиров) к нуждам «проповеди письмом»: донат как ключ к «священной» латинской грамоте, был первой ступенью к источнику «вечного спасения» — Библии (эта идея есть в «Букваре» 1574 г. Ивана Федорова — «Начальное учение детям хотящим разумети Писание»).
В пользу того, что страсбургское сообщество было не просто производственным, а духовным объединением, говорят некоторые детали актов 1439 г. Предвиденная Андреасом Дритценом невозможность соглашения между его братьями и Гутенбергом для производственного товарищества необъяснима. Для такового странен договор на случай смерти кого-либо из участников: по сути он для них всех означал отказ от личного имущества, хотя обусловленный — сроком договора и размерами того, что у каждого оставалось сверх вклада в общее дело. Показателен и ответ Андреаса — на совет двоих свидетелей выйти из сообщества, — что он «должен» свое имущество отдать (на что оба сказали ему почти одно — если должен, то отдай и не говори об этом). Судя по этой и другим частностям — займу у Антония Хейльмана на стороннее дело, оставшимся после Андреаса драгоценностям (они упоминаются в тяжбе между его братьями из-за его наследства) и др., он метался между принятым, хотя временно, безымущественным «путем к блаженству» и приверженностью к своей собственности, начинал еще личные (ювелирные) предприятия, отчего и запутался в долгах. Неясно, оставалась ли какая-нибудь собственность у Гутенберга: средства его по всей видимости шли на изобретение, т. е. на общее дело; и в дальнейшем имущества за ним не видно. Если то была братская община, то почему, несмотря на участие в ней священника (принадлежность к сообществу Антония Хейльмана явствует из его слов, что Андреас «с нами бурсы не имел»; они же подводят к мысли, что именно Андреас Дритцен из общежительства почему-то выбыл) и при открытом существовании многих братств нужна была эта тайность? Особенно в годы Базельского собора, в 1433 г. признавшего даже богемских чашников, что само смещало границы и признаки еретизма? Разрыв Собора с папой, создав идеологическое двоецентрие, и объявленный немецким духовенством нейтралитет, избавлявший от повиновения обеим высшим церковным инстанциям, оставляли каждому из князей духовных и светских свободу выбирать позицию и преследовать иные в пределах своей юрисдикции. Тайность могла диктоваться местными условиями, тем более, что для организации общины требовалось разрешение, но и безусловной еретичностью направления самой общины. Возможно, что Гутенберг представлял свойственную многим открытым мистическим объединениям того времени тайную линию (это, если понимал, то, видимо, один Антоний Хейльман; Риффе как персонаж почти без речей неясен). В тайне соблюдалась не только техническая сторона дела, но и назначение тех «относящихся к печатанию» приспособлений, над которыми с 1436 г. шла работа. И это возвращает к вопросу, зеркала или «зерцала» готовили к аахенской ярмарке Гутенберг и его товарищи.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: