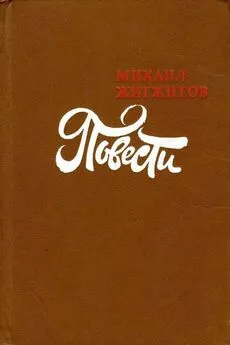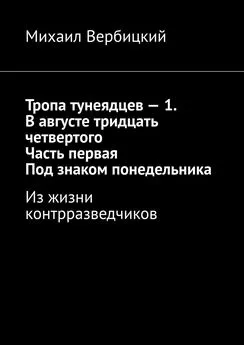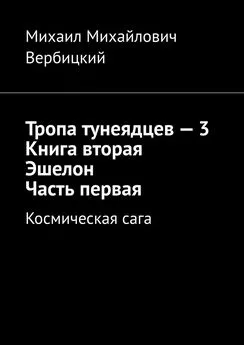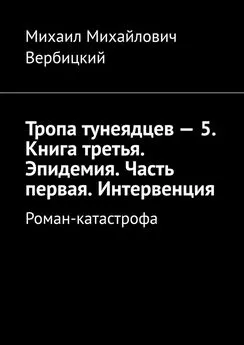Михаил Громов - Тропа к Чехову
- Название:Тропа к Чехову
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Детская литература»4a2b9ca9-b0d8-11e3-b4aa-0025905a0812
- Год:2004
- Город:Москва
- ISBN:5-08-004111-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Громов - Тропа к Чехову краткое содержание
Биография великого русского писателя, основанная на серьезном анализе его творчества и дополненная архивными фотографиями, воспоминаниями близких и современников, открывает новые грани жизненной и писательской судьбы А. П. Чехова.
Тропа к Чехову - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Вслед за ласточками перебрался на север и Антон Павлович.
Он поместился в маленькой квартире своей сестры, на Малой Дмитровке, Дегтярный переулок, дом Шешкова.
Самый простой стол посреди комнаты, такая же чернильница, перо, карандаш, мягкий диван, несколько стульев, чемодан с книгами и записками – словом, только необходимое и ничего лишнего. Это была обычная обстановка его импровизированного кабинета во время путешествия.
Со временем комната пополнилась несколькими эскизами молодых художников, всегда талантливыми, новыми по направлению и простыми. Тема этих картин в большинстве случаев тоже самая простая – русский пейзаж в духе Левитана: березки, речка, поле, помещичий дом и проч.
А. П. не любил рамок, и потому обыкновенно этюды прикреплялись к стене кнопками.
Скоро на письменном столе появились тоненькие тетрадочки. Их было очень много. Антон Павлович был занят в то время корректурой своих мелких, забытых им рассказов самой ранней эпохи. Он готовил своему издателю Марксу новый выпуск мелких рассказов. Знакомясь с ними вновь, он добродушно хохотал, и тогда его густой баритон переливался по всей маленькой квартире.
Рядом с его комнатой часто шумел самовар, а вокруг чайного стола, точно калейдоскоп, сменялись посетители. Одни приходили, другие уходили.
Здесь часто и долго сиживали покойный художник Левитан, поэт Бунин, Вл. И. Немирович-Данченко, артист нашего театра Вишневский, Сулержицкий и многие другие.
Среди этой компании обыкновенно молчаливо сидела какая-нибудь мужская или женская фигура, почти никому не известная. Это была или поклонница, или литератор из Сибири, или сосед по имению, товарищ по гимназии, или друг детства, которого не помнил сам хозяин…
Не думайте, чтоб после успеха «Чайки» и нескольких лет его отсутствия наша встреча была трогательна. А. П. сильнее обыкновенного пожал мне руку, мило улыбнулся – и только. Он не любил экспансивности. Я же чувствовал в ней потребность, так как сделался восторженным поклонником его таланта. Мне было уже трудно относиться к нему просто, как раньше, и я чувствовал себя маленьким в присутствии знаменитости. Мне хотелось быть больше и умнее, чем меня создал Бог, и потому я выбирал слова, старался говорить о важном и очень напоминал психопатку в присутствии кумира. Антон Павлович заметил это и конфузился. И много лет после я не мог установить простых отношений, а ведь только их А. П. и искал со всеми людьми.
Кроме того, при этом свидании я не сумел скрыть впечатления фатальной перемены, происшедшей в нем. Болезнь сделала свое жестокое дело. Быть может, мое лицо испугало А. П., но нам было тяжело оставаться вдвоем.
К счастью, скоро пришел Немирович-Данченко, и мы заговорили о деле. Оно состояло в том, что мы хотели получить право на постановку его пьесы «Дядя Ваня».
– Зачем же, послушайте, не нужно… я же не драматург, – отнекивался А. П.
Хуже всего было то, что императорский Малый театр хлопотал о том же. А. И. Южин, так энергично отстаивавший интересы своего театра, не дремал.
Чтобы избавиться от мучительной необходимости обидеть отказом кого-нибудь из нас, А. П. придумывал всевозможные причины, чтоб не дать пьесы ни тому, ни другому театру.
– Мне же необходимо переделать пьесу, – говорил он Южину, а нас он уверял: – Я же не знаю вашего театра. Мне же необходимо видеть, как вы играете…
Мы, конечно, пользовались каждым случаем, чтобы говорить о «Дяде Ване», но на наши вопросы А. П. отвечал коротко:
– Там же все написано.
Однако один раз он высказался определенно. Кто-то говорил о виденном в провинции спектакле «Дядя Ваня». Там исполнитель заглавной роли играл его опустившимся помещиком, в смазных сапогах и мужицкой рубахе. Так всегда изображают русских помещиков на сцене.
Боже, что сделалось с А. П. от этой пошлости!
– Нельзя же так, послушайте. У меня же написано: он носит чудесные галстуки. Чудесные! Поймите, помещики лучше нас с вами одеваются.
И тут дело было не в галстуке, а в главной идее пьесы. Самородок Астров и поэтически нежный дядя Ваня глохнут в захолустье, а тупица профессор блаженствует в С.-Петербурге и вместе с себе подобными правит Россией. Вот затаенный смысл ремарки о галстуке (А. П. Чехов в воспоминаниях современников. 1986. С. 377, 379, 382).
О. Л. Книппер-Чехова
В сезон 1899/900 года мы играли «Дядю Ваню».
С «Дядей Ваней» не так было благополучно. Первое представление похоже было почти на неуспех. В чем же причина? Думаю, что в нас. Играть пьесы Чехова очень трудно: мало быть хорошим актером и с мастерством играть свою роль. Надо любить, чувствовать Чехова, надо уметь проникнуться всей атмосферой данной полосы жизни, а главное – надо любить человека, как любил его Чехов, и жить жизнью его людей. А найдешь то живое, вечное, что есть у Чехова, – сколько ни играй потом образ, он никогда не потеряет аромата, всегда будешь находить что-то новое, не использованное в нем.
В «Дяде Ване» не все мы сразу овладели образами, но чем дальше, тем сильнее и глубже вживались в суть пьесы, и «Дядя Ваня» на многие-многие годы сделался любимой пьесой нашего репертуара. Вообще пьесы Чехова не вызывали сразу шумного восторга, но медленно, шаг за шагом, внедрялись глубоко и прочно в души актеров и зрителей и обволакивали сердца своим обаянием. Случалось не играть некоторые пьесы несколько лет, но при возобновлении никогда у нас, артистов и режиссеров, не было такого отношения: ах, опять старое возобновлять! К каждому возобновлению приступали мы с радостью, репетировали пьесу, как новую, и находили в ней все новое и новое (А. П. Чехов в воспоминаниях современников. 1954. С. 603–604).
К. С. Станиславский
Антон Павлович любил приходить во время репетиций, но так как в театре было очень холодно, то он только по временам заглядывал туда, а бо́льшую часть времени сидел перед театром, на солнечной площадке, где обыкновенно грелись на солнышке актеры. Он весело болтал с ними, каждую минуту приговаривая:
– Послушайте, это же чудесное дело, это же замечательное дело – ваш театр.
Это была, так сказать, ходовая фраза у Антона Павловича в то время.
Обыкновенно бывало так: сидит он на площадке, оживленный, веселый, болтает с актерами или с актрисами – особенно с Книппер и Андреевой, за которыми он тогда ухаживал, – и при каждой возможности ругает Ялту. Тут уже звучали трагические нотки.
– Это же море зимой черное, как чернила…
Изредка вспыхивали фразы большого томления и грусти. Тут же он, помню, по нескольку часов возился с театральным плотником и учил его «давать» сверчка.
– Он же так кричит, – говорил он, показывая, – потом столько-то секунд помолчит и опять: тик-тик.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: