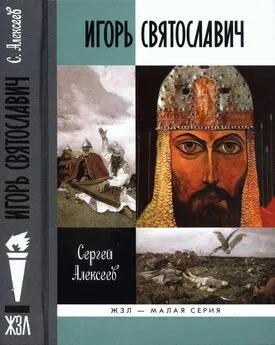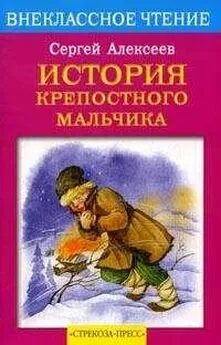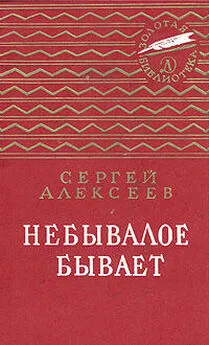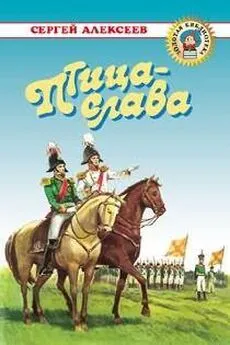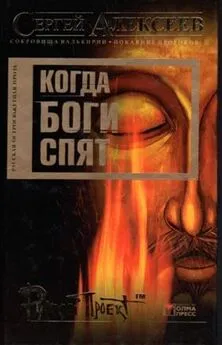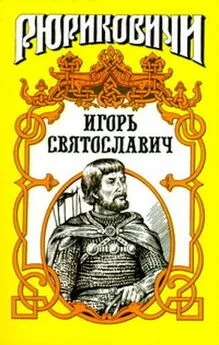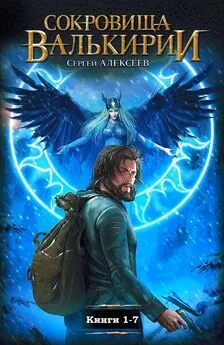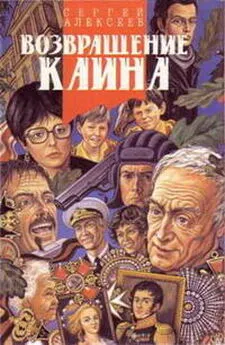Сергей Алексеев - Игорь Святославич
- Название:Игорь Святославич
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:2014
- Город:М.
- ISBN:978-5-235-03664-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Алексеев - Игорь Святославич краткое содержание
Князь Игорь Святославич Новгород-Северский (1151—1201) вошел в историю благодаря единственному событию — неудачному походу против половцев в 1185 году, в результате которого впервые пятеро русских князей оказались в плену на чужбине. Поход этот описан в двух летописных повестях, а главное, в эпической поэме «Слово о полку Игореве». Именно она принесла Игорю славу — едва ли вполне заслуженную, ибо это был лишь один из многих удельных правителей того времени, не самый заметный и не самый выдающийся.
На страницах книги доктора исторических наук Сергея Алексеева действуют не поэтические герои, а исторические персонажи — Игорь и Святослав, «Буй Тур» Всеволод и его тезка Большое Гнездо, Кончак и Ярославна. Это не классическая биография, а портрет персонажа второго плана, проступающий на фоне бурной, насыщенной событиями эпохи междоусобных войн и походов в Степь, благородных деяний и клятвопреступлений. Самый заметный из его поступков, давший русской культуре и истории «Слово о полку Игореве», стал для князя самым злосчастным, но обессмертил его имя.
Игорь Святославич - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Но мир княжеских палат не был отделен непроницаемой стеной от мира маленьких градов тайных язычников. Это были части одного целого — мира тогдашней Руси, сообщение между ними осуществлялось постоянно, и, следовательно, они не могли не испытывать взаимного влияния. Вести из «иного» мира приносили в княжеские дома странствующие «песнотворцы», и христианские правители спокойно и благодарно внимали, когда их чествовали как «Дажьбожьих внуков», что не мешало тем же «песнотворцам» призывать на них благословение Божие. Странность и вредность «двоеверия» была ясна по преимуществу духовенству, писавшему обличительные «слова».
Полуязыческий Лес был не единственным соседом новгород-северских князей. Их город стоял на Десне, в порубежье Леса и Степи — и чем дальше на юг, тем ближе становился еще один «иной» мир, еще более чуждый, еще менее христианский — и в то же время опять-таки не совсем чужой для князей из дома «Гориславича». Их военные союзники и свойственники, половцы, в мирные годы легко переходили границу, оседали на службе у черниговских и северских князей, смешивались с их подданными. И если на лесном севере последние сохраняли верность отеческим обычаям, то на лесостепном юге легко заимствовали половецкие. Точно так же и половцы перенимали обычаи, а то и веру русских, — но едва ли становились более верными христианами, чем они. Для Святославичей половцы оставались ближайшими нерусскими соседями — иногда друзьями, временами врагами и в любом случае родней. Завладевшие Черниговом Всеволодовичи могли счесться родством с византийской знатью или с королевскими домами Скандинавии, зато Святославичи — со степными ханами.
Невелика гордость. Поживших в средоточии Руси Святославичей наверняка глодали обида и недовольство. Стремление доказать, что и он в своем захолустье чего-то стоит, постоянно гнало Игоря по его княжеской жизни — то к добру для него и Руси, то к худу. Пример показывал брат, до конца жизни не забывавший, что мог бы сидеть в Чернигове. В свое время Игорь не упустит собственный шанс. Но пока — большую часть отпущенных ему лет — он жил в Новгороде-Северском, и стремление то украсить собственную малую землицу, то прославить себя на брани раз за разом загоралось в нем да и в сородичах, которых он возглавил после Олега. «Или мы не князи?» — этот риторический вопрос, толкнувший Игоря в бедовый поход 1185 года, вполне мог бы стать девизом всей его жизни.
С вокняжением Глеба Юрьевича в Киеве всю Центральную Русь охватил пожар усобицы. На севере Андрей Боголюбский со смоленскими союзниками пытался сломить непокорный Новгород, на юге его брат отстаивал Киев от посягательств Мстислава Изяславича, а их родня между тем делила уделы Киевщины. В этой распре пострадала и сестра Святославичей, жена умершего в январе 1170 года Владимира Андреевича Дорогобужского. Двоюродный брат покойного Владимир Мстиславич, ища новых владений, обманом выгнал вдову с телом мужа из Дорогобужа и присвоил ее имущество {199} 199 См.: ПСРЛ. Т. 2. Стб. 546-548.
.
Ольговичи вовсе не влезали в эту распрю Мономашичей. Поучаствовав в разорении Киева, они как будто ушли из большой русской политики, предоставив членам конкурирующего дома разбираться между собой. Единственный раз Святослав Всеволодович выказал неблагожелательство к Глебу, когда дал в Чернигове пристанище изгнанному им Михайловскому князьку Васильку — союзнику Мстислава из туровской княжеской линии {200} 200 См.: Там же. Стб. 551.
, но этим его вмешательство в распри 1169—1170 годов и ограничилось. Этой разумной политикой Черниговщина почти наверняка была обязана изысканному уму своего великого князя Святослава. Чернигов и Новгород-Северский копили силы. Святослав, как вскоре стало ясно, примерялся к киевскому престолу. Олег же не оставлял надежды в случае перехода кузена в Киев получить Чернигов. Надо думать, Святослав умело поддерживал это заблуждение. Их интересы, таким образом, пока совпадали — и Ольговичи слаженно уклонились от ратных дел прочих русских князей.
Однако это было именно накопление сил, и не только военных. Не позднее начала 1170 года Игорь Святославич женился. Супругой его стала дочь галицкого князя Ярослава Осмомысла. Как Ярославна она упоминается в «Слове о полку Игореве». Подтверждает ее происхождение и Ипатьевская летопись, называющая Владимира Ярославича шурином Игоря {201} 201 См.: Там же. Стб. 633-634.
. Несомненно, эта брачная комбинация была чрезвычайно выгодной — Игорь становился не только зятем могущественного правителя Юго-Западной Руси, но и мужем племянницы Андрея Боголюбского и Глеба Киевского. Кроме того, брак гарантировал, что Осмомысл не станет поддерживать своего свата Святослава Всеволодовича против Святославичей и будет заинтересован в союзе со всеми Ольговичами, равно как и в их согласии между собой. Не исключено даже, с учетом этих обстоятельств, что брак инициировал сам Святослав, чтобы усыпить бдительность северской родни, крепче привязать ее к себе, а заодно получить надежного и сильного арбитра на случай конфликта.
В литературе Ярославна часто именуется Евфросинией. Имя это впервые всплывает в «Родословнике» императрицы Екатерины II, остальные сведения которого об этом браке, включая ошибочную дату его заключения (1184), восходят к «Истории Российской» Татищева {202} 202 См.: Творогов О.В. На ком были женаты Игорь и Всеволод Святославичи? // ТОДРЛ. Т. 48. М., 1993. С. 48-49.
. Откуда взято имя, неизвестно. По одной версии, императрица приписала супруге Игоря монашеское имя ее матери Ольги; по другой, появление «Евфросинии» может быть как-то связано с княжескими помянниками. В Любечском синодике упоминается Евфросиния, жена князя Феодосия, который, однако, никак не может являться Игорем-Георгием. Итак, остается признать, что имя единственной в полном смысле слова героини поэмы об Игоревом походе, ставшей самым выразительным женским образом древнерусской литературы, нам неизвестно, как и имена многих других княгинь удельной эпохи.
Еще меньше знаем мы о жене младшего брата Игоря, Всеволода. Его брак был заключен примерно в то же время или немногим позже. В «Слове» она названа Глебовной. Первые комментаторы в 1800 году домыслили, что она являлась дочерью великого князя Глеба Юрьевича. В росписи Рюриковичей, приложенной к изданию, неизвестный автор заполнил лакуну, дав княгине имя Ольга. Правда, оно не встречается ни в одном источнике {203} 203 См.: Там же. С. 49-50.
. По поводу происхождения Глебовны можно только сказать, что версия издателей «Слова» весьма вероятна, но не является единственной. В первой половине 1170-х годов Святослав Всеволодович пытался вернуть в лоно черниговского дома оторвавшихся от него рязанцев. Он выдал за Романа, сына рязанского князя Глеба Ростиславича, одну из своих дочерей {204} 204 См.: ПСРЛ. Т. 2. Стб. 614.
. На дочери же Юрия Ростиславича Муромского черниговский князь женил своего старшего сына Олега {205} 205 См.: Там же. Стб. 602-603.
(именно он с наибольшей долей вероятности является Феодосием Любечского синодика; следовательно, это его жену звали Евфросинией {206} 206 См.: Зотов Р.В. Указ. соч. С. 41-42.
). Так что Глебовна могла быть и дочерью Глеба Рязанского — тогда становится еще более вероятно, что устраивать судьбу младших братьев помогал Олегу Святослав.
Интервал:
Закладка: