Павел Куприяновский - Бальмонт
- Название:Бальмонт
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-235-03663-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Павел Куприяновский - Бальмонт краткое содержание
Мало кто из поэтов испытал при жизни такую феерическую славу, как Константин Бальмонт (1867–1942), по ревнивому замечанию В. Брюсова, «десятилетие нераздельно царивший в русской поэзии». Прославившая его книга «Будем как Солнце» призывала к жизни радостной, светлой, яркой, дерзкой. И его жизнь была такой: ранняя слава, бурные влюбленности, путешествия в экзотические страны, несколько вынужденных эмиграций и наконец последняя, превратившая «солнечного гения» в пасынка русской литературы едва ли не на полвека… И вместе с тем беспримерная работоспособность Бальмонта — поэтическая, прозаическая, переводческая — поражает воображение. П. В. Куприяновский и Н. А. Молчанова, исследователи творчества поэта, представляют на суд читателя первый опыт полного жизнеописания Бальмонта, «поэта с утренней душой».
знак информационной продукции 16+
Бальмонт - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Лучшие автобиографические стихи в книге «В раздвинутой дали» навеяны воспоминаниями детства, мифотворчество в них отступает на второй план, поэт отдает дань любви и благодарности родителям. В стихотворении «Мать» радостно отмечает общие черты:
Птицебыстрая, как я,
И еще быстрее,
В ней был вспевный звон ручья
И всегда затея.
…………………………
Утром, чуть в лугах светло,
Мне еще так спится,
А она, вскочив в седло,
На коне умчится.
…………………………
Сонной грезой счастье длю,
Чуть дрожат ресницы.
«Ах, как маму я люблю,
Сад наш — сад жар-птицы!»
К отцу обращается с естественными для зрелого, помудревшего человека словами сожаления и покаяния («Отец»):
О, мой единственный, в лесных возросший чащах,
До белой старости, всех дней испив фиал,
Средь проклинающих, среди всегда кричащих,
Ни на кого лишь ты ни разу не кричал.
……………………………
И я горю сейчас тоской неутолимой,
Как брошенный моряк тоской по кораблю,
Что не успел я в днях, единственный, любимый,
Сказать тебе, отец, как я тебя люблю.
В процитированных строках можно найти прямые переклички с бальмонтовским мемуарным очерком «На заре» (1929).
Показательно, что вся книга завершается венком сонетов «Основа». «Раздвинутая даль» памяти уносит Бальмонта в историческое прошлое России, в котором он хочет найти «основные» символические события: «щит Олега», «святого Сергия завет», «слово Курбского», «взор Петра и бег Мазепы», «двенадцатый год» (стихотворения «Знак», «Быль», «Русь», «Двенадцатый год» и др.). В стихотворении «Быль» поэт признается:
Чем я ближе к корню русских наших дней,
Зов славянского дерзанья мне сложней.
Бальмонт осознавал, что обращение к исторической тематике потребует от него эпического размаха. Возможно, называя книгу «поэмой», он думал о Гоголе (эпиграфом к стихотворению «Русь» были взяты слова из «Тараса Бульбы»), однако совсем преодолеть свой природный лиризм, конечно, не мог.
Образ России раскрывается в ее «вечном лике», духовнопросветленном, «вольном», «нежном», причем преобладающая интонация здесь уже не элегическая, а возвышенно-риторическая, «славословная»:
Узнай все страны в мире,
Измерь пути морские,
Но нет вольней и шире,
Но нет нежней — России.
Или:
Придет наш час. Погнутся вражьи выи.
И волю слив с волной колоколов,
Россия — с нами — станет — Русь — впервые.
И все же главным божеством для Бальмонта всегда была природа. Поэтому в них «даль» русской истории и «родословная» поэта растворены в космическом бытии, почти все стихотворения пронизаны духом пантеизма. В утверждении неразрывности личностного, исторического и природного начал поэт видел залог восстановления национального духа и воскресение России, прошедшей через «мутное марево»:
Верь в Солнечную Литургию,
Весна лучом разит по льдам,
И вешнюю вернет Россию
Неизменяющим сынам.
Пантеистический пафос бальмонтовской книги «В раздвинутой дали» вызвал неприятие у Георгия Адамовича. «Россия для него — одна из частей прекрасного мира — и только, — писал критик. — Но после всего, что в России случилось <���…> эти славословия читаешь с недоумением. Все прежнее… Русь васнецовско-билибинская».
Думается, что Г. Адамович был слишком суров к Бальмонту. «Славословия» поэта явились не простым перепевом «прежнего» — они были выстраданы, прошли через серьезные размышления о «доле» и «воле» России и собственной судьбе «блудного сына», что, может быть, наиболее ярко выражено в стихотворении «Я»:
Но, мир поцеловав и весь его крестом
В четырекратности пройдя необозримый,
Не как заморский гость вступаю в Отчий Дом,
И нет, не блудный сын, а любяще-любимый.
В название книги очерков о славянских поэтах — «Соучастие душ» — Бальмонт вкладывал широкий смысл. По его мысли, «соучастие душ» славянских народов может сыграть важную историческую роль в мире, наполнив его присущей славянам духовностью. «Славяне, — писал Бальмонт в статье „Душа Чехии“ (Россия и славянство. 1930. 12 июля), — мало изучают язык, историю и творчество братских народов. Об этом нужно глубоко сожалеть, и, во имя новых исторических путей, это равнодушие и эта рознь должны быть преодолены. Если б, взаимосочувствием, взаимосоприкосновением и взаимоподчинением, великое царство славян — внутренне сколько-нибудь объединилось, это была бы самая светлая на земле Духовная Держава».
Эти слова, сказанные поэтом более восьмидесяти лет тому назад, не потеряли своего значения и теперь. А в 1931 году в рецензии на книгу «Соучастие душ», опубликованной в газете «Россия и славянство», профессор Николай Карлович Кульман так оценил его подвижнический труд: «Никто из русских писателей не сделал так много для литературного сближения славянских миров, как К. Д. Бальмонт».
Глава десятая
«СОУЧАСТИЕ ДУШ»
«Соучастие душ» в жизни и творчестве Бальмонта приобретало разные формы. Поэтический эгоцентризм сочетался у него с пониманием боли и страдания людей, с готовностью прийти на помощь. Он был наделен даром сопереживания. Может быть, наиболее ярко это проявилось в заочной дружбе с больной юной поэтессой Таней Осиповой, жившей в Финляндии. Екатерина Алексеевна Андреева-Бальмонт назвала эту дружбу «последним романом» поэта. В ней необычным образом сказалась его влюбчивая натура.
Два года обменивались Бальмонт и Таня письмами, стихами, цветами. Проникновенные письма и стихи Бальмонта, выражавшие искреннее душевное расположение, поддерживали волю двадцатилетней девушки в борьбе за жизнь. «Год назад ей чахотка указывала скорую смерть, — рассказывал поэт историю своих отношений с Таней Осиповой. — Целый год моя любовь к ней и ее любовь ко мне заколдовали смерть. Моя воля, моя любовь побеждали ее недуг. Это я знаю из писем ее матери. И казалось, что, победив весну, она спасена. Но внезапно ей стало худо, и она закрыла глаза навсегда… Мое сердце пробито и опустошено».
Подробно эта история описана в очерке Бальмонта «Весна прошла», в котором опубликованы и некоторые стихи Тани Осиповой (Перезвоны. 1929. № 42). Несколько стихотворений поэта о Тане Осиповой вошло в сборник «В раздвинутой дали. Поэма о России».
По-своему проявилось «соучастие душ» и во взаимоотношениях Бальмонта с семейством Нобль из Бостона. Старшая дочь Лилли, одно время жившая в Петербурге и владевшая русским языком, на английском писала стихи, в них поэт уловил дарование автора. Он переводил их на русский, Лилли переводила его стихи на английский, печатала о нем статьи в бостонской газете. Однако это был не просто «обмен любезностями». Бальмонт верил в талант Лилли Нобль, у них нашлись общие интересы. В одном из писем поэт деликатно просил Лилли поискать для него в Америке «какие-нибудь интересные книги о легендах и нравах Океании <���…> а также о памятниках Мексики и Майи». Он признавался: «Если бы человечество не сошло с ума <���…> я бы беспрерывно путешествовал. Я видел многое, но сколько еще осталось неувиденным и непережитым, Центральная Африка, Перу, Южная Америка, Китай, Сиам, Индокитай, Южный полюс и Северный полюс. Ах, горько об этом думать. Если бы не проклятая Война и трижды проклятая Революция, я уже за эти 12 лет увидел бы все перечисленное». Внезапно в декабре 1929 года Лилли Нобль умерла. Письма поэта ее матери Лидии Львовне Нобль, в девичестве Пименовой, полны понимания ее горя и сочувствия ему. Утешая ее, он писал: «Я потерял в Лилли ласковую добрую сестру. Ее отец потерял в ней любящую дочь и верного друга. Но Вы, утратив ее, потеряли свет очей». С матерью он переписывался вплоть до ее кончины в 1934 году, их связывала память о Лилли.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
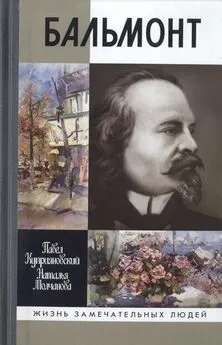

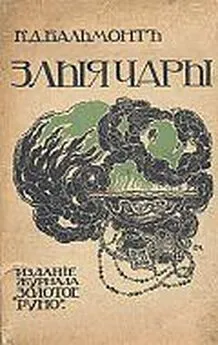
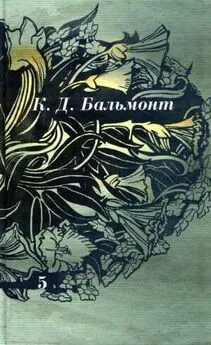
![Константин Бальмонт - Константин Бальмонт и поэзия французского языка/Konstantin Balmont et la poésie de langue française [билингва ru-fr]](/books/613502/konstantin-balmont-konstantin-balmont-i-poeziya-frantsuzskogo-yazyka-konstantin-balmont-et-la-po-sie-de-langue-fran-aise-bilingva-ru-fr.webp)