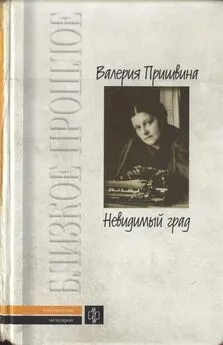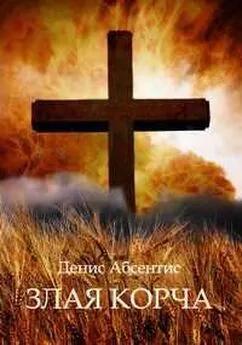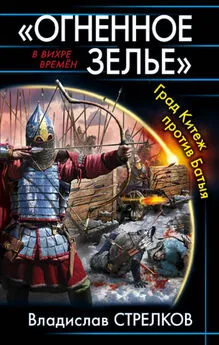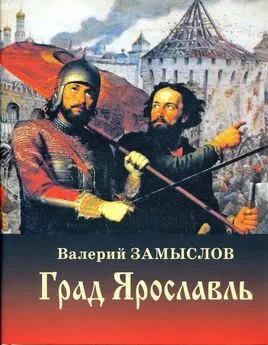Валерия Пришвина - Невидимый град
- Название:Невидимый град
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:2003
- Город:Москва
- ISBN:5-235-02442-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Валерия Пришвина - Невидимый град краткое содержание
Книга воспоминаний В. Д. Пришвиной — это прежде всего история становления незаурядной, яркой, трепетной души, напряженнейшей жизни, в которой многокрасочно отразилось противоречивое время. Жизнь женщины, рожденной в конце XIX века, вместила в себя революции, войны, разруху, гибель близких, встречи с интереснейшими людьми — философами И. А. Ильиным, Н. А. Бердяевым, сестрой поэта Л. В. Маяковской, пианисткой М. В. Юдиной, поэтом Н. А. Клюевым, имяславцем М. А. Новоселовым, толстовцем В. Г. Чертковым и многими, многими другими. В ней всему было место: поискам Бога, стремлению уйти от мира и деятельному участию в налаживании новой жизни; наконец, было в ней не обманувшее ожидание великой любви — обетование Невидимого града, где вовек пребывают души любящих.
Невидимый град - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Весной начинает оттаивать и протекать потолок нашей избушки. Мы покрываем крышу, обмазываем изнутри стены глиной с коровяком, белим их. Все — к приезду мамы. Я развожу огород. В короткое лето на крайнем севере у меня на диво удаются огурцы и даже южные помидоры. Все растет здесь круглые сутки благодаря белым ночам.
«Даже растения борются, отстаивая у природы право на жизнь», — думаю я. Мне стыдно, мне страшно, я не признаюсь самой себе: столько пережив, столько потеряв, я вижу в себе неистребимую жажду любви — утраченной и неосуществленной. Как после всего я смела еще желать себе жизни? — а как же Лев Толстой, глубокий старик, мудрец, отец многочисленного семейства, любимый и прославленный всем миром человек, все помыслы отдававший заботе о страдающих людях, как же он записал в своем старческом дневнике: «Самое сильное и тайное желание мое — это любить и быть любимым»?
С открытием навигации к нам собирается моя мать. Я готовлюсь к ее приезду, запасая необходимое, но у меня нет очень нужного — корыта. Большого, круглого корыта, в котором можно и мыться, здесь делают такие из деревянных планок, как бочки, в обручах.
Я узнаю, что «политическая» (то есть партийная) ссыльная Екатерина Владимировна освобождается и распродает свои вещи. Так поступают все уезжающие. У нее-то я и нахожу такое корыто. Екатерина Владимировна провожает меня, стоя на крыльце, на руках у нее голубоглазый мальчик. Она получила «минус» и будет теперь жить в каком-нибудь захолустном городишке с мужем.
— А потом, — говорю я ей, — кончится минус, и вы вернетесь домой.
— А потом, — иронически продолжает мою речь Екатерина Владимировна, — мы снова отправимся в лагеря или ссылку. Мы ведь не то, что вы, мы политические враги… Вы — овцы, а мы для них — волки.
— И вы за него не страдаете? — спрашиваю я.
— Нет, с тех пор, как я стала матерью, я почувствовала себя еще сильней и бесстрашней в политической борьбе.
— Неужели все страданья не открыли вам жизнь в иной ценности, чем ваша политическая текучая злободневность? Может быть, надо бросить это вам, хотя бы ради этого чуда? — спрашиваю я, целуя мальчика.
Екатерина Владимировна не понимает меня. Она вежливо молчит. А может быть, мне не доверяет… Я ухожу.
Путь мой долог. Я несу корыто на голове, временами ставлю его на землю, присаживаюсь на пни, отдыхаю, осматриваюсь вокруг. Да! и на крайнем севере та же радость ранней весны: наст весело блестит на солнце, так блестит, что у меня ломит в глазах, около темных пней снег оседает и с южной стороны уже проталины. На небе среди быстро бегущих рваных облаков голубые оконца, тоже как проталины, они напоминают глаза ребенка, которого я только что поцеловала.
И всплывает со дна души раз мелькнувшее и спрятанное там поспешно впечатление: это было пять лет назад. Олег рассказывал, как он вез вместе с Настей своего крестника маленького Сережу на Кавказ и, когда выходил с ним погулять на остановках поезда, все принимали его за отца, и сочувствовали, и одобряли, и Олегу это было приятно. Олег рассказал мельком, весело, не принимая случая к сердцу, а меня рассказ его задел за живое, и, помню, мелькнула острая мысль: «Ему эта роль понравилась. Почему бы не ехать так ему с нашим ребенком?» Мысль была запретная, и я ее торопливо обрезала. Это был первый и последний раз, когда я пожелала своего ребенка.
Обь тронулась. И мать моя отправилась в Нарым, повторяя прославленный путь «русских женщин». То были восемь вошедших в великую русскую историю жен декабристов, а здесь незаметные в своем множестве жены и матери бесчисленных русских людей, безвинно высланных в отдаленнейшие места огромной страны. Мама проезжала Тюмень, где встретил ее с цветами и проводил старый друг Борис Дмитриевич Удинцев, отбывавший ссылку. В Томске она застала еще Людмилу Вячеславовну Кафка и познакомилась с ней.
Когда я увидала мать, спускавшуюся ко мне на берег по трапу, я уловила в себе странное разочарование: «Этого ли я так ожидала, об этом ли так томилась целый год?» Чувство было мимолетно, и я его тут же подавила. Но оно было не случайно, и, как ни тяжко, от этого воспоминания мне в рассказе уже не уйти. Я еще раз поняла в то лето, что на самом деле я жду чего-то или кого-то совсем другого, как бы ни старалась я убедить себя и окружающих, что мечтаю только о будущей жизни с мамой…
Мама прожила с нами все лето и уехала с последним пароходом. Как хотелось мне проводить мать до Томска: создать ей иллюзию свободы! Я решилась попросить об этом нашего начальника Жука. Он ответил вопросом на вопрос:
— Вы знаете, что я не имею права вам выдать такое разрешение?
— Но вы можете меня отпустить под честное слово, — ответила я.
— Хорошо, — сказал он, — поезжайте, только, вернувшись, немедленно явитесь ко мне.
Так я в положении «вольного» человека проводила до Томска свою мать. Хотя и Жук, конечно, знал, что я не убегу, и я знала, что на каждом пароходе есть зоркие глаза его сотрудников. Зачем он говорил мне о своей хорошей среде, интересных людях, верных товарищах? Может быть, он сам так искренно думал? Разве не знал он, что делается под его началом, как страдают и гибнут бессмысленно невинные люди? Или вся эта даровая рабочая сила, при огромных, спешных заданиях строительства, не помещалась в поле зрения начальника? Эти вопросы задавала тогда себе не одна я: неужели они не понимают? И сейчас, пожалуй, еще трудно ответить на вопрос, понимали ли исполнители этой злой воли, что они делали…
В последнюю нашу колпашевскую зиму постучал к нам однажды человек и сказал:
— Я слышал, вы москвичи и образованные люди. Вот я и пришел к вам. Я — Клюев, Николай.
— Поэт? — воскликнули мы в один голос.
— Да, поэт, — ответил старик с горечью и устало сел на табурет. — Нет ли чего-нибудь у вас покормиться? — спросил он, согревшись.
Клюев был еще не стар: его старили борода и манера держаться. Был он до крайности неустроен. Он часто стал заходить к нам. Я кормила его, чинила ему одежду, а он сидел и читал, вернее, пел своим «клюевским» неповторимым песенным речитативом неизданные колдовские поэмы, так, наверно, и пропавшие.
Он читал последнюю часть «Песни о Великой Матери» под огонек нашей коптилки перед замерзшим окном, и мы слушали его, забывая свое горе. И не было в те минуты для нас ни холода, ни темноты, ни таежной пустыни.
Почему я не записала тогда этих поэм? Не знаю, как и ответить. Знаю одно — судьбы русской литературы меньше всего меня волновали в те дни, я и не думала об этом. Мы уехали — он остался. Слышала, что, освободившись, он умер внезапно на вокзале в момент отъезда. «Песнь о Великой Матери» и еще многое другое, что было в его котомке, попало в руки какого-то его спутника. Был такой смутный слух.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: