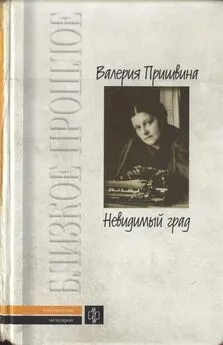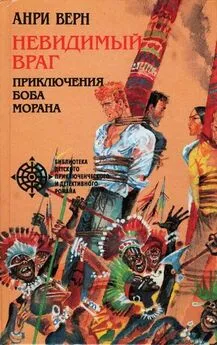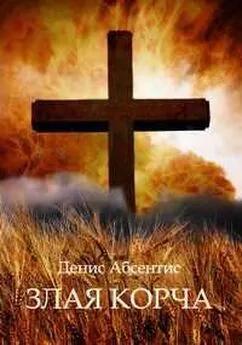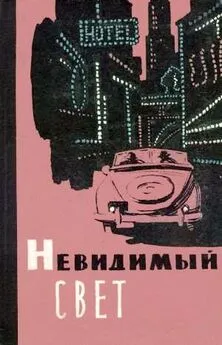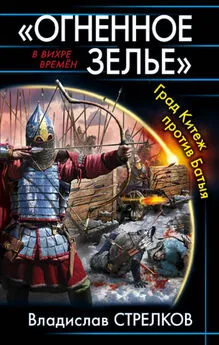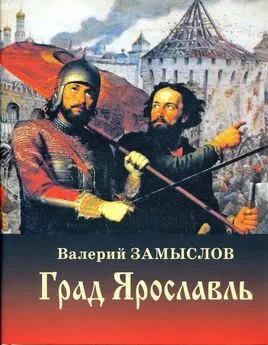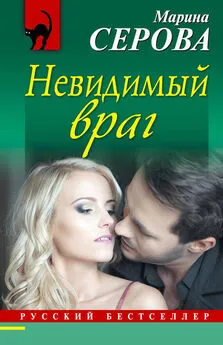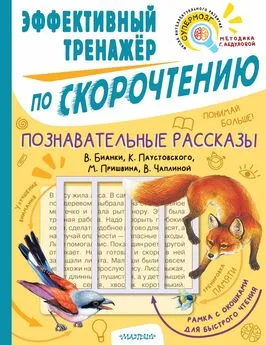Валерия Пришвина - Невидимый град
- Название:Невидимый град
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:2003
- Город:Москва
- ISBN:5-235-02442-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Валерия Пришвина - Невидимый град краткое содержание
Книга воспоминаний В. Д. Пришвиной — это прежде всего история становления незаурядной, яркой, трепетной души, напряженнейшей жизни, в которой многокрасочно отразилось противоречивое время. Жизнь женщины, рожденной в конце XIX века, вместила в себя революции, войны, разруху, гибель близких, встречи с интереснейшими людьми — философами И. А. Ильиным, Н. А. Бердяевым, сестрой поэта Л. В. Маяковской, пианисткой М. В. Юдиной, поэтом Н. А. Клюевым, имяславцем М. А. Новоселовым, толстовцем В. Г. Чертковым и многими, многими другими. В ней всему было место: поискам Бога, стремлению уйти от мира и деятельному участию в налаживании новой жизни; наконец, было в ней не обманувшее ожидание великой любви — обетование Невидимого града, где вовек пребывают души любящих.
Невидимый град - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Эй, вы,
Небо!
Снимите шляпу!
Я иду!
Глухо.
Вселенная спит,
положив на лапу
с клещами звезд огромное ухо {85} .
У Маяковского весь космос — как одно огромное ухо. Разве вы через этот образ не видите, что Маяковский спорит с живым Творцом? Маяковский не стал бы тратить себя на борьбу с химерой. В это мгновение он верует (знает), одновременно отрицая.
По Маяковскому можно увидать еще одно особенное наше русское свойство — целиком отдаваться нравственной идее, бросаться в нее, как в костер. Другие народы мира постарше, они уже поостыли и, конечно, расчетливее тратят себя на общее дело. Вот почему, может быть, и революцию мы за них совершаем…
Абрамов: — По правде говоря, нам действительно нечего было терять! Посмотрите на моего бывшего друга Александра Васильевича: что у него? одни книжки. И те он сожжет, когда пойдет в попы. Но это — между прочим. Скажите мне о другом: зачем ваш бог строит с такими сложностями свою вселенную («недоучка», «крохотный божик»)?
Я: — Ничего, Абрамов, я не обижаюсь, мне стало с вами уже не трудно… Вы на Бога смотрите, как на верховного администратора или как дикарь на деревянного домашнего божика. А если мы с нашим Творцом сотрудники? {86} Самое главное, мне кажется, мы должны научиться о Нем молчать, а не так, как оно было бесстыдно перед революцией у декадентов, у оккультистов, в разных философских столичных кружках. В простом верующем народе было иначе. Помню, как няньку мою один образованный и легкомысленный гость спросил, есть ли Бог, она ответила ласково, серьезно и очень иронично к его легкости: «Что-то, барин, есть», — и он замолчал.
Абрамов: — Допускаю на минуту, что вы правы: мы, русские, имеем особое нравственное призвание в мировой истории. Тем более подвиг нашего времени один: это делание общественной справедливости. Значит, надо торопиться делать эту справедливость, простую и понятную всем. За это мы, революционеры, и взялись. Ни капли времени терять не будем, и тогда ваш же бог нас погладит по головке. А вы, на что вы себя обрекли? охранять стены пустых храмов, камни, обряды и догматы на потребу старух и кучки бывших интеллигентов?
Я: — Вы правы, храмы будут разрушены, я с детства предчувствую это! Все будет разрушено! На что Владимир Соловьев был поборником церковной организации, ее вселенского торжества на Земле, а и он говорил, умирая, своему другу Сергею Трубецкому: «Магистраль всеобщей истории пришла к концу… кончено все. Христианства нет, идей не больше, чем в эпоху Троянской войны…»
Разрушение как возмездие за грехи церкви уже совершается на наших глазах. Никогда, вероятно, не осуществятся, не станут видимы в массе людской наши идеалы. Мне что-то запрещает теперь произносить перед скептиком имя Божье вслух. Мне неловко бывает смотреть на священника в его облачении среди неверующей толпы. Кончится мир или начнется по-новому, но вера теперь должна стать нашей тайной, явными — наши дела. Только дела и могут убедить.
А. В.: — Вы говорите об этом с таким оттенком, словно радуетесь предстоящему разрушению и торопите его. Но если все-таки останется жизнь на Земле и не сохранится видимой церкви, где хранить сокровища мысли, накопленные поколениями?
Я: — В мысли. Смысл невозможно уничтожить {87} . Он сохранится в естественной поэзии, во врожденном чувстве прекрасного, этом необъяснимом свойстве нашей души. Люди выйдут из борьбы голыми, и красота будет их первая одежда. Она и просвечивает сквозь преступную историю человечества. Вот о чем, может быть, и думал Достоевский, когда говорил, что «красота спасет мир». Поэзия — это дрожжи в мировой истории: самая минимальная доля в общем составе, но без дрожжей не получится хлеба.
Абрамов: — Ваши церковники вас бы сожгли на костре, родись вы немного пораньше. Но он еще, может быть, вас и сожжет, — говорит Абрамов, указывая на Александра Васильевича. — Прощайте! — Они прощаются за руку, не выдерживают, обнимаются.
Тот наш спор был, конечно, короче и проще. Воспроизвести его с точностью через полвека — невыполнимая задача, но я свела в единство многие наши думы и слова, всплывшие в памяти, и нигде не вышла за пределы правды тех лет.
До сих пор, спустя несколько десятков лет, мне снится иногда, будто я поднимаюсь по мраморным лестницам, отраженная в зеркалах, прохожу по торжественным дворцовым залам, среди обтянутых шелком стен, и все это великолепие — мой дом. Именно так вскоре и случилось со мной, и это был не сон, а самая жизненная правда. Такое странное было время, что я, с одной стороны, человек, выключенный из общего потока жизни, уцепившийся за край громадной вращающейся сферы, чтобы не оторваться, не провалиться в бездну, с другой — оказалась вечной для всех времен Золушкой, не ведающей, что сказочный поворот судьбы ожидает ее через мгновенье. Каким-то непонятным образом все вокруг именно так и происходило, и ты на самом деле не знал, где окажешься завтра, то ли в тюрьме, то ли в чужом прекрасном дворце.
Окончилась тяжба МОНО с Центроэваком за особняк № 43-а по Б. Никитской, и он был передан мне под детский дом. Зима тоже кончалась. Солнце шло на лето. Снег в тот год лежал на улицах громадными сугробами и даже с крыш редко где убирался. Пока мрачный молодой человек в полувоенной форме, назвавшийся комендантом, возился с заржавевшим и разбухшим замком, время от времени поглядывая на меня с недоверием, я любовалась золотой капелью, падавшей с крыши этого большого двухэтажного особняка. Дом стоял необитаемым всю зиму и смотрел на меня огромными зеркальными окнами без переплетов, холодно и безразлично. Хозяин его, крупный промышленник и министр Временного правительства Коновалов, бежал за границу. Дом, казалось, неохотно впускал новых хозяев: замок поддавался с трудом.
На дворе, окруженном высокой ажурной решеткой, сохранился ряд каштановых деревьев: их не решились почему-то срубить замерзавшие вот уже четвертую зиму москвичи. Как они будут цвести, эти каштаны, перед нашим домом?
Наконец дверь подалась. Тамбур, еще одна стеклянная дверь, несколько широких ступеней вверх — и мы в вестибюле. Оттуда идет широкая, в два пролета лестница, ведущая на верхний этаж. Посредине вестибюля на фоне зеркальной стены нас встречает босоногая мраморная девушка-пастушка, сидящая в спокойной задумчивости на белом мраморном пне. Она беззаботно пересидела здесь своих бывших хозяев, теперь она приветливо встречает меня, нищую и бездомную, которая скоро приведет сюда в этот дворец кучку таких же бездомных детей. Разве это не сказка, не сон?
Дом был проморожен, как склеп, но по южной стороне уже начинал согреваться. Через широкие окна лились теплые лучи, они отражались в огромных, вздымавшихся до потолка зеркалах зала, играли в хрусталях люстр. Эта зала и примыкавшая к ней вторая парадная гостиная были завешаны во всю вышину суровыми полотнищами — чехлами. Я приподняла одно из них и ахнула: стены были обиты белым шелком. Приподняла в гостиной — шелковые стены там были светло-желтые, цвета солнечного луча. Потом я поглядела на потолок — там ползли, растекаясь, зловещие пятна. Еще немного — и по шелковым стенам потекут потоки воды.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: