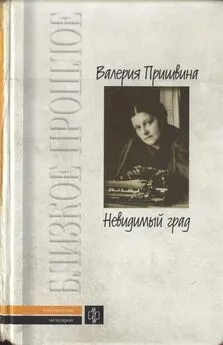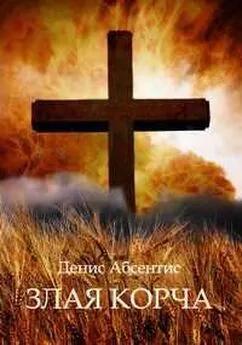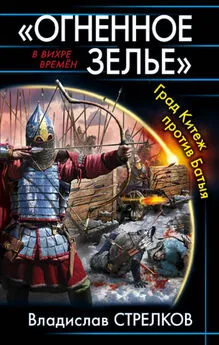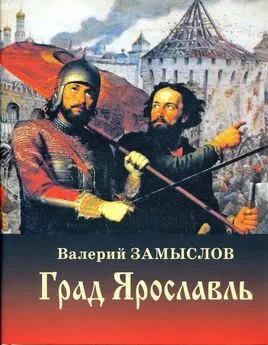Валерия Пришвина - Невидимый град
- Название:Невидимый град
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:2003
- Город:Москва
- ISBN:5-235-02442-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Валерия Пришвина - Невидимый град краткое содержание
Книга воспоминаний В. Д. Пришвиной — это прежде всего история становления незаурядной, яркой, трепетной души, напряженнейшей жизни, в которой многокрасочно отразилось противоречивое время. Жизнь женщины, рожденной в конце XIX века, вместила в себя революции, войны, разруху, гибель близких, встречи с интереснейшими людьми — философами И. А. Ильиным, Н. А. Бердяевым, сестрой поэта Л. В. Маяковской, пианисткой М. В. Юдиной, поэтом Н. А. Клюевым, имяславцем М. А. Новоселовым, толстовцем В. Г. Чертковым и многими, многими другими. В ней всему было место: поискам Бога, стремлению уйти от мира и деятельному участию в налаживании новой жизни; наконец, было в ней не обманувшее ожидание великой любви — обетование Невидимого града, где вовек пребывают души любящих.
Невидимый град - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В 30-е годы Шура взяла к себе старую женщину, скитавшуюся из дома в дом после лагеря. От нее отвернулись все, даже ближайшие родственники — это была семья крупного советского академика, по-видимому считавшая, что подобная связь была опасна. По своей доброте Шура всегда подкармливала окрестных кошек и собак, собирала хлеб и траву для больничной лошади, которая страдала от недобросовестного конюха…
«Мелкие, ничего не значащие факты, которыми полна жизнь», — скажет, может быть, читатель. Но как мне пройти мимо них? А «великое»… я не побоюсь положить его на одну чашу весов, а на другую — имя Шуры Поповой, и я не уверена, что первая перетянет.
Так проходило время. Серое ситцевое платье. Никаких украшений. Строгий пост. Раннее вставанье: в 6 утра начинается обедня, а оттуда прямо в Центросоюз. Вечером со службы прямо в церковь либо домой, где собираются друзья для совместного изучения какой-либо книги.
Зимой 1923/24 года в наш подвал приходил и Иван Васильевич Попов, которого мы нашли по завету Ильина в Троице-Сергиеве. Великий знаток староотеческой литературы — патристики, курс которой он нам и прочел, и скромнейший человек; впоследствии погиб в лагерях. Слушали его тогда мои новые друзья по церкви и кое-кто из бывших студентов ораторского факультета, среди которых был мешковатый молодой человек типа провинциального бухгалтера — Измаил Сверчков. Студентом он производил почти отталкивающее впечатление сухого скептика. Я была поражена, когда в конце той зимы он мне сказал однажды: «Сегодня я выполнил свой долг, чего не делал с детства». Это значило, что он исповедался и причастился. Помню, его слова показались мне тогда невозможно сухими и оскорбительными для события, о котором он мне сообщал. Только позднее я поняла, что Измаил так говорил от благоговения перед тем, чего боялся касаться словами. А через несколько лет я снова встретила его — уже священником. Это был редкий на моей памяти и поразивший меня пример полного перерождения: даже внешне Измаил стал неузнаваем. Он светился внутренним изяществом, мягкостью, во время службы в храме был вдохновенен. Знаю, что Измаил погиб в тяжких лагерях на Свири.
В подвал приходил еще наш бывший студент А. М. Бардыгин, образованный историк, с умом точным и собранным — типичный молодой ученый. Он также был сослан без права въезда в Москву и умер, как мне передавали, от тоски, измучившись от умственного одиночества, где-то в глуши.
Я называю отдельных пришедших мне сейчас на память людей того времени. Это были прекрасные люди, дети нашей родины, которая их не уберегла… «Горькая детоубийца — Русь!» {126} — пишет Максимилиан Волошин. А я пишу эти строки, как пишет верующая старуха свою поминальную записку с именами ушедших. Я пишу для вас, будущих людей, чтоб вы не забывали, какой ценой вы получили вашу, может быть, мирную, может быть, духовно богатую и прекрасную жизнь.
Мама не читала наших книг, мало вникала в смысл лекций, но ее покоряли сами люди, меня окружавшие. Она часто говорила впоследствии, что это было лучшее, что она встретила в жизни. Николай Николаевич по-прежнему в определенные дни и часы появлялся в нашем подвале. В наших лекциях и беседах он участия не принимал по причине деловой занятости, а вернее, по отсутствию к ним интереса. С мамой они крепкие союзники. И оба они не видят, как я, подобно воде, от них утекаю.
«После гибели отца Ляле открылся тот мир, где нет смерти, и в этом явилась ей небывалая радость, какой нет и не может быть на земле. С тех пор она стала на страже этой радости, стремясь, чтобы не подменил бы кто ее. И главный враг ее в этом отношении — ее собственная мать, стерегущая, наоборот, как бы только чем-нибудь „хорошим“ с ее точки зрения, нормальным, здоровым подменить высшую радость, понимаемую в глубине души как ненормальность», — записывает в дневнике Михаил Пришвин о моей жизни {127} . И это, конечно, правда, но я сама вряд ли это тогда понимала. Однако от Александра Васильевича я скрывала свой предстоящий брак, может быть, боясь его огорчить… Я знала, что он признавался о. Роману в своей мечте, но батюшка ему сказал: «Неужели ты не видишь, что вы не пара? Она твой друг, сестра, но женой твоей быть не может. Ты и не думай об этом». Так передал мне сам батюшка этот разговор.
Все еще шел тот единственный в моей жизни сентябрь 1923 года. События подгоняли друг друга, все стремительнее, все к одному, к одному… Невидимая цель этого движения стояла у моего порога, а я этого даже не предчувствовала. А тем временем — еще одна встреча на Цветном бульваре с Лилей Лавинской. И сейчас в точности я могла бы указать то место, где мы уселись с ней на скамейку, не разнимая рук, обрадованные. Лиля была уже матерью и, казалось бы, должна быть обогащена материнством. Но по лицу ее было видно иное. Лицо это утратило выражение устремленности и надежды, за которое я так его любила. Тот светлый огонь был притушен, а горел иной — мрачный огонь недоверия и опустошенности.
Я рассказала Лиле о своих находках, о православии, раскрывшемся мне, как самое прекрасное, что я видела у себя на родине. Лиля смотрела на меня сумрачно.
— Это мракобесие, — наконец бросила она мне раздраженно, — средневековый кошмар! Прочти Фейербаха, если только ты еще способна мыслить свободно, он тебя исцелит.
Я смотрела на свою подругу и не находила слов для возражения. Ведь я понимала ее до последней черты, я могла бы легко пересказать ей все ею же приготовленные мне слова, но сделать зримым для нее мое видение мира было невозможно: у нее не было для этого глаз.
— Ты говоришь о мраке Средневековья, но разве мы знаем подлинную историю, не искаженную в угоду веку? — пробую возразить я. — Ты подумай о другом: какую титаническую работу мысли проделали вандалы, разрушившие античную культуру и сами вынужденные потом выбираться из-под обломков, чтобы вновь ее создавать. И они создали средневековую школу мысли, презрительно называемую невеждами «схоластикой». Но мы с нашей современной логикой — ее наследники. Возьми хотя бы одного Николая Кузанского {128} … ты, наверно, о нем и не слышала… А это мост от классической древности к современности.
Лиля примирительно улыбнулась.
— Как это похоже на наши детские споры о Ницше, — сказала она.
— Неужели ты не видишь, — говорю я, — что из века в век строится, разрушается и исчезает бесчисленное множество схем понимания жизни. Все они строятся одинаково добросовестно. Люди за них идут на костер. Но сама жизнь шире нашего охвата, она вытекает из-под этих схем, как живая вода, не умещается в них. Неужели ты не видишь всех этих неразрешимых противоречий? Ты пробуешь залеплять рассудком эти бездны. Люди уничтожают друг друга и, может быть, окончательно когда-нибудь уничтожат все человечество из-за добросовестности и прямолинейности, из-за неспособности свести в единство разные идеи. Не думай, что это мои слова, так говорит один из моих учителей-«мракобесов».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: