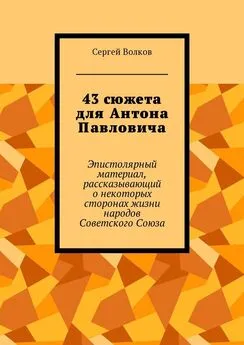Александр Чудаков - Антон Павлович Чехов
- Название:Антон Павлович Чехов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Время
- Год:2013
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9691-107
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Чудаков - Антон Павлович Чехов краткое содержание
Книга предназначена для учащихся старших классов. Доктор филологических наук А. П. Чудаков знакомит школьников с жизнью А. П. Чехова. В книге показывается, какие условия, обстоятельства, впечатления детства и юности подготовили неповторимое художественное восприятие мира, как из сотрудника юмористических журналов вырос великий писатель, открывший новую страницу в мировом искусстве.
Антон Павлович Чехов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Уже в «Петербургской газете» (1883—1886) читателям приоткрылся будущий Чехов – в таких рассказах, как «Егерь», «Кухарка женится», «Горе», «Художество», «Тоска», «Переполох», «Актерская гибель». Но и над этой газетой витал дух Лейкина, печатавшегося с Чеховым в очередь; объем тоже был ограничен («не больше двух гранок»); писать также надо было к сроку.
Поэтому понятен тот взрыв, который произошел, когда ему перестали ставить какие-либо условия относительно и сроков [7] , и тем, и объема, тона, и не нужно стало ничего «прятать» из опасения испортить, втискивая в прокрустово ложе короткого рассказа. В два месяца он печатает «Панихиду», «Враги», «Агафью», «Кошмар», «Святою ночью» – вещи, принадлежащие к лучшим его рассказам. Он буквально обрушил на читателя накопленные за несколько лет образы, картины, размышления. «Пятью рассказами, помещенными в “Новом времени”, я поднял в Питере переполох, от которого угорел, как от чада».
Так началось сотрудничество в «Новом времени», обогатившее русскую литературу многими замечательными произведениями.
Работа в газете Суворина имела и ощутимые материальные результаты: «“Ведьма” в “Новом времени” дала мне около 75 р. – нечто, превышающее месячную ренту с “Осколков”» (17 марта 1886). В очередной приезд в Петербург сотрудник известной газеты явился в редакцию «Осколков», надев «новое пальто, новые штаны и острые башмаки» (25 апреля 1886). Но при всем том Чехов печатается в «Новом времени» реже, чем в «Осколках» и «Петербургской газете»: лишь в марте и октябре 1886 года он опубликовал по три рассказа в месяц, обычно же печатал два или, чаще, один рассказ; были и пустые месяцы. Заказная работа начала впервые тесниться свободной. Но количественное сокращение написанного было еще впереди.
1886-1887 годы – время наивысшей чеховской продуктивности. В 1886 году им написано более ста произведений. Устанавливаются многие черты его манеры. Например, формируется поэтика чеховского пейзажа.
С первых лет Чехов очень охотно пародировал поэтический предметный набор массово-литературного пейзажа: «Был тихий вечер. В воздухе пахло. Соловей пел во всю ивановскую. Деревья шептались. В воздухе, выражаясь длинным языком российских беллетристов, висела нега… Луна, разумеется, тоже была. Для полноты райской поэзии не хватало только г. Фета, который, стоя за кустом, во всеуслышание читал бы свои пленительные стихи» («Скверная история», 1882).
Однако если бы Чехов ограничился только отталкиванием и пародированием, его пейзаж так и остался бы в рамках юмористической традиции. Для создания нового литературного качества одного минус-приема не достаточно – он очень быстро становится обратным общим местом и опять, уже в этом качестве, входит в массовый литературный обиход эпохи. Нужно было что-то другое.
Начав с распространенных в юмористике форм, молодой Чехов на них не остановился. Фамильярность переходила в домашность, интимность; грубоватый антропоморфизм – в приближенность к человеку, его повседневному окружению, ненавязчивому приобщению природы к человеческим меркам, масштабам, ощущениям. «Зимнее солнышко, проникая сквозь снег и узоры на окнах, дрожало на самоваре и купало свои чистые лучи в полоскательной чашке» («Мальчики», 1887). Как писал современный критик, «текучая вода, вросший в землю камень, движущееся облачко – все это для него так или иначе проявление мировой жизни, подчиняющейся тем же законам, как и человек. Человек и природа сливаются в его глазах в одно, как часть и целое» («Каспий», 1888, 6 декабря, № 264).
Сближение явлений природы с миром бытовых явлений и вещей, ощущаемое как снижение, сначала имело у Чехова юмористическую и эпатирующую окраску. Но окраска ушла, сам же принцип остался, создав поэтичность нового типа.
В эти годы формируется чеховский рассказ – как новое и оригинальное явление русской литературы. Образцом этой определившейся поэтики может служить едва ли не любой из рассказов второй половины 1887 года: «Свирель», «Почта», «Беглец», «Холодная кровь», «Мальчики», «Поцелуй». В «Рассказе госпожи N» историю жизни, молодости, ожиданья любви, упущенного счастья, тоскливого настоящего оказалось возможным передать всего на нескольких страницах текста.
Но в это самое время он оставляет «старую манеру», короткий рассказ, – начинает писать большую вещь. Это была повесть «Степь». 3
Повесть была задумана после поездки в родную южную степь весной 1887 года (или поездка была задумана для повести).
Второго апреля Чехов выехал в Таганрог. Уже после станции Харцызской начались знакомые картины. «Вижу старых приятелей – коршунов, летающих над степью… Курганчики, водокачки, стройки – все знакомо и памятно. […] Хохлы, волы, коршуны, белые хаты, южные речки…»
После гимназии он был в родном городе на следующий год и еще на следующий. Но эти поездки не оставили в памяти особого следа. Теперь с отъезда из Таганрога минуло 8 лет; он ехал туда профессиональным писателем. Все виделось иначе – и родственники, и старые знакомые, и город.
«Силуэты акаций и лип были всё те же, что и восемь лет тому назад; так же, как и тогда, во времена детства, где-то далеко бренчало плохое фортепьяно, все та же была манера у публики бродить по аллеям взад и вперед, но не те были люди. Уж по аллеям ходили не я, не мои товарищи, не предметы моей страсти, а какие-то чужие гимназисты, чужие барышни. И стало мне грустно, когда на свои расспросы о знакомых я раз пять получил от Кисочки в ответ “умер”, моя грусть обратилась в чувство, какое испытываешь на панихиде по хорошем человеке. И я, сидя тут у окна, глядя на гуляющую публику и слушая бренчанье фортепьяно, первый раз в жизни собственными глазами увидел, с какою жадностью одно поколение спешит сменить другое и какое роковое значение в жизни человека имеют даже какие-нибудь семь-восемь лет!» («Огни», 1888).
К этому времени в прозе Чехова вырабатывается повествовательная манера, которую принято называть объективной . В его рассказе автор-повествователь не выступает прямо со своими оценками героев или изображаемого вообще. Он скрыт, его точку зрения читатель улавливает из сюжета, соотношения высказываний и действий героев, всего произведения в целом. Все же изображаемое внешне дается так, как его видит герой. Из окружающей обстановки показывается только то, что может наблюдать он – из окна, из тарантаса, идя по улице, стоя на берегу реки. То, что он не видит со своего наблюдательного пункта, не изображается. А если все же показывается, то об этом говорится предположительно: «видимо», «очевидно»; автор не берет на себя ответственность говорить об этом категорически, «от себя». Это не значит, что речь повествователя нейтральна, эмоционально ровна. В ней не проявляются его эмоции, но чувства героев насыщают ее обильно; используется очень подходящая для этих целей несобственно-прямая речь.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
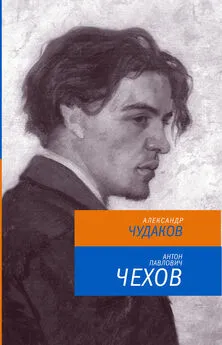

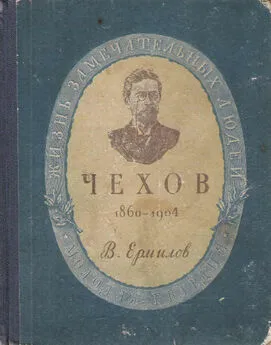
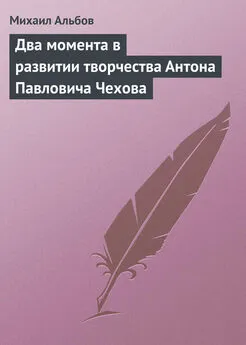

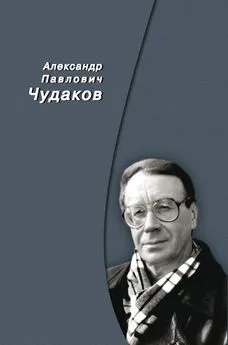

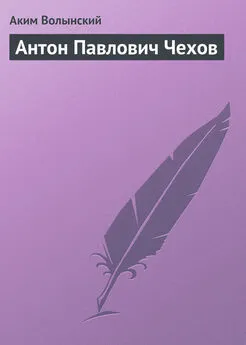
![Александр Чудаков - Ложится мгла на старые ступени [Дополненное издание]](/books/1096645/aleksandr-chudakov-lozhitsya-mgla-na-starye-stupeni.webp)