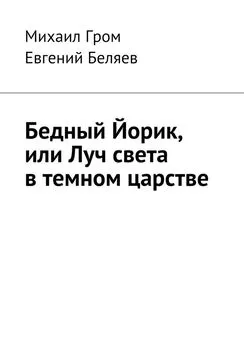Михаил Громов - Чехов
- Название:Чехов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:1993
- Город:Москва
- ISBN:ISBN 5-235-01990-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Громов - Чехов краткое содержание
Биография великого русского писателя Антона Павловича Чехова (1860–1904), основанная на серьезном, глубоком анализе творчества и дополненная архивными фотографиями, открывает новые, неожиданные грани жизненной и писательской судьбы, позволяет почувствовать его душевное одиночество: «как я буду лежать в могиле один, так в сущности я и живу одиноким».
Широта и разнообразие фактического материала, достоверное изображение эпохи и окружения Чехова, нетрадиционный подход к его биографии, любовь к своему герою — вот что отличает книгу Михаила Петровича Громова. Она рассчитана на самый широкий круг читателей.
Чехов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Словарь родного языка наследуется. Значения слов — в пределах каждого «личного» словаря — воспринимаются от взрослых в самые ранние годы жизни. Словарь читаемой в школьные годы книги — особенно если это книга стихов — может отличаться (и чаще всего так и бывает) от первоначального словаря. Чтение, расширяя словарь, привносит множество образов и представлений, не имеющих «бытовых» имен, воображение приучается к небывальщине, мы начинаем принимать книгу за жизнь и, если жизнь бедна и бескрасочна, предпочитаем книгу. По-видимому, здесь все истоки своеобразно русского отношения к литературе («не я живу, а книжные образы во мне живут») и все ключи к так называемой «интерпретации текста».
Мы более или менее соглашаемся, что литература — не совсем жизнь, но с тем, что литература совсем не жизнь, мы согласиться пе в состоянии.
Не потому, что «тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман», не потому» что «в книгах сказки, а в жизни только правда есть». Пушкин знал, что поэзия не обман, а высокая правда, противостоящая низменным истинам бытия человеческого, и только в этом противостоянии, в том, что она «делает разницу» между высоким и низким, заключен ее истинный смысл.
Для низменностей жизни, для грубых, животных ее проявлений, для злодейств и пороков литературная речь не нужна.
Роман, поэма, рассказ, вообще любой литературный текст, отмеченный серьезными художественными достоинствами, конечно же, отражает жизнь; Чехов особенно настаивал на том, что его герои — результат наблюдения и изучения жизни, что как писатель он не солгал ни на гран и не перемудрил ни на йоту. Но у писателя нет палитры, холста, карандашей, красок — только общенародный словарь, из которого он отбирает нужное ему, самое точное и характерное. Художественный текст представляет собою сочетание отобранных слов, расположенных в согласии с художественным замыслом в гармоническом порядке; иными словами, текст — это перестроенный, или, говоря еще точнее, авторизованный словарь.
Можно сказать также, что напечатанный текст еще «не делает литературы». Это надводная часть айсберга (пусть читатель простит приевшийся варваризм), по которой можно узнать, что айсберг существует. А его глубинная, подводная часть — это смысл, который обнаруживается лишь при чтении текста, погруженного в язык и память народа и доступного в той мере, в какой читающий владеет ими. А у каждого из нас своя вотчина, и нам не так-то легко выйти за ее рубеж.
Большая, хотя и вполне обычная ошибка — не вникать при анализе текста в суть его заглавия, или, говоря точнее, не относить заглавие к тексту, над замыслом которого мы размышляем, стараясь его уяснить. Нередко заглавия изучаются, так сказать, монографически, «сами по себе»; такие подходы имеют и свою особую цель, и свою историю, иногда большую («Война и мир», например). Но истинный смысл заглавных словосочетаний в том, что они являются «ключом» к тексту.
Стоит сопоставить два заглавных словосочетания, на первый взгляд разрозненных и далеких, но в действительности соотнесенных и связанных между собой: вишневый сад , где в самом деле нет отрицательных значений, где, пока существует наш язык, будут царить очарование и лирический свет, и черный монах , где, впрочем, тоже есть своя мрачная поэзия и свое очарование — в духе какого-то средневекового романтизма; как тут ни суди, но призрак, овладевающий разумом философа Коврина, соблазнителен, он, как сказали бы в старину, «чарует», он льстит самым сокровенным, уязвимым, самолюбиво болезненным сторонам душевного существа…
И он, как ни странно, убедителен не только для героя рассказа, но и для читателей! Сначала в прижизненной критике, а потом и в литературоведении стали говорить о том, что в споре со старым садоводом Песоцким правота на стороне Коврина! Да, сад в рассказе, разумеется, не случайность, но это, так сказать, «не тот» сад, это «коммерческий», где яблоки выращивались для продажи. Как будто в литературе, на страницах книг, в самом деле можно «выращивать» что-либо, как будто в словосочетании «вишневый сад» в самом деле растут вишни, но не «коммерческие» и не для всех, а только для чеховедов, для актеров и режиссеров Художественного театра…
Словосочетание «черный монах» не имеет никаких положительных значений; с ним связываются лишь роковые, страшные, таинственные смыслы. Здесь поневоле приходят на ум инквизиторы, костры, где испепелялись книги, сжигались люди, и еще застенки, пытки, безумные речи, безумные дела — все как в «Черном монахе»…
Особенность словосочетаний подобного рода заключается еще и в том, что они наделяют сущностью и существованием самые фантастические образы, и читатель воспринимает их как некую реальность — Черный монах в рассказе не менее реален для пас, чем тот же Коврин, чем Таня, работники в саду и самый сад. Они могут дать художественную сущность и тому, чего никогда в истории не было. Правда, «черное монашество» все-таки было, и исторические соотнесения — инквизиция — тут возможны. Но как быть с пушкинским «каменным гостем», символом возмездия и кары, поэтическим идолом, идущим из мифологической тьмы художественного сознания, из тех времен, когда тени обитали среди живых, одушевляющих свет, воду, камень?
Но откроем Пушкина: Каменный гость существует, соседствуя с «Заклинанием», с такою бессмертной выдумкой, как трава забвенья … Больше того: он кажется почти реалистическим, он приходит, громыхая литаврами в оркестре, он протягивает руку. Да, тяжело пожатье каменной его десницы…
Словосочетание целостно, оно теряет смысл, если читать слова порознь. Иногда это ясно, а иногда нет, что особенно затрудняет нас в случаях, казалось бы, самых простых и привычных. Например, словосочетание «Война и мир», очевидно, включает в себя все значения слова «война», какие усваиваются нами при чтении романа: смотр войск перед Аустерлицем, Тушин, Наполеон, смерть князя Андрея, смерть Пети Ростова, плен Безухова, Каратаев — словом, все, о чем можно прочитать у Толстого. Но, кроме того, все безграничное множество соотнесений и припоминаний, какие возникают у нас, если мы так или иначе пережили войну или читали о ней в других книгах, старых и современных.
То же самое следует сказать и о слове «мир», с каким бы «и» оно ни писалось: здесь нужны не только все словарные, но и все воображаемые, подразумеваемые поэтические значения, все лично пережитое, сохранившееся в воспоминаниях, известное по рассказам и семейным преданиям — и т. д., и т. д. Здесь своя весьма обширная область значений и смыслов, исторических, общечеловеческих и глубоко личных.
Связывая эти слова союзом «и», мы получаем новую, весьма широкую область значений. В ней слиты и контрастно сопоставлены прежние две («война», «мир»), но возникает и множество новых, неожиданных для нас; они дают все новые и новые поводы для разноречивых толкований и споров, и смысл заглавного словосочетания, созданного Львом Толстым, кажется неисчерпаемым. Да так оно, по-видимому, и есть, поскольку заглавие этой книги представляет собой символ с безграничным числом значений.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: