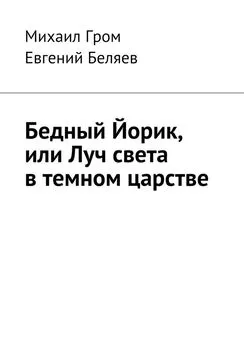Михаил Громов - Чехов
- Название:Чехов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:1993
- Город:Москва
- ISBN:ISBN 5-235-01990-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Громов - Чехов краткое содержание
Биография великого русского писателя Антона Павловича Чехова (1860–1904), основанная на серьезном, глубоком анализе творчества и дополненная архивными фотографиями, открывает новые, неожиданные грани жизненной и писательской судьбы, позволяет почувствовать его душевное одиночество: «как я буду лежать в могиле один, так в сущности я и живу одиноким».
Широта и разнообразие фактического материала, достоверное изображение эпохи и окружения Чехова, нетрадиционный подход к его биографии, любовь к своему герою — вот что отличает книгу Михаила Петровича Громова. Она рассчитана на самый широкий круг читателей.
Чехов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Это и пушкинские, и лермонтовские образы, и тургеневские ноты, и мотивы забытых элегий. Ночная гроза приводит на ум «демонов глухонемых», а рассказ об отчаянных, грустных мыслях, «когда долго, не отрывая глаз, смотришь на глубокое небо», напоминает стихи Тютчева:
Бесследно все — и так легко не быть!
При мне иль без меня — что нужды в том?
Все будет то ж — и вьюга так же выть,
И тот же мрак, и та же степь кругом.
Это был бы совсем другой роман, едва ли понятный Григоровичу, и в основе его конфликтов лежали бы мифы русской истории и русской совести, мифы роковой неоплатной вины.
Какие бы планы ни возникали у Чехова, пока он работал над «Степью» и думал о ее продолжении, написал он то, что хотел написать — повесть с открытым финалом, к которому трудно было что-либо добавить:
«Какова-то будет эта жизнь?»
Со «Степью» Чехов связывал, быть может, серьезнейшие в своей жизни надежды и ожидания. Появление и тем более успех повести в столь заметном журнале, как. «Северный вестник», меняло судьбу, кончалась полоса «переломных» лет, наступал переход от раннего, отмеченного множеством несовершенств «осколочного» творчества Антоши Чехонте к драматургии и прозе А. Чехова. «Удалась она или нет, не знаю, но во всяком случае она мой шедевр, лучше сделать не умею», — писал он А. С. Лазареву-Грузинскому, не допуская и мысли о неудаче: «начну спускаться по наклонной плоскости».
В одном из писем Чехов заметил, что вторгается со своей «Степью» во владения Гоголя: «он в нашей литературе степной царь».
Первая страница «Степи» соотнесена с начальным периодом «Мертвых душ» столь откровенно, что о случайном совпадении не приходится и думать. Чехов, конечно, стремился подчеркнуть преемственность и традицию, как бы посвящая «Степь» памяти Гоголя.
«В ворота гостиницы губернского города N въехала довольно красивая рессорная небольшая бричка, в какой ездят холостяки, отставные подполковники, штабс-капитаны, помещики, имеющие около сотни душ крестьян, словом, все те, которых называют господами средней руки» (Гоголь).
«Из N, уездного города Z-ой губернии, ранним июльским утром выехала и с громом покатила по почтовому тракту безрессорная, ошарпанная бричка, одна из тех допотопных бричек, на которых ездят теперь на Руси только купеческие приказчики, гуртовщики и небогатые священники» (Чехов).
Степная дорога — сюжет в полном смысле этого слова исторический, сюжет без начала и конца, с простором для «дорогих образов и картин», с остановками для подробного описания характеров, нравов и встречных лиц: «Боже! как ты хороша подчас, далекая, далекая дорога! Сколько раз, погибающий и тонущий, я хватался за тебя, и ты всякий раз меня великодушно выносила и спасала!»
Обращаясь к слову Гоголя или упоминая его имя в тексте, Чехов отмечал и связь, и контраст времен: «Гоголевский Петрушка давно уже читает», — скажет позднее герой «Дома с мезонином».
В «Степи» и связанных с нею рассказах появились новые характеры, а с ними — черты, звуки и образы новой жизни: грохот сорвавшейся в шахте бадьи, варламовские отары овец и на том горизонте, где у Гоголя «по небу, изголуба-темеому, как будто исполинскою кистью, наляпаны были широкие полосы из розового золота» — дым проходящего поезда.
Наконец, сама степь, дикая и свободная вольница — «куда оно все девалось?… тут и гуси были, и журавли, и утки, и тетерева — туча тучей… Пошли прахом и орлы, и соколы, и филины… а новое не растет» («Свирель»).
Связь и контраст с Гоголем — а для Чехова он прежде всего мастер, поэт и стилист — ощущается в описаниях степного Царства, монументально-живописного в «Тарасе Бульбе» и лирически-задумчивого в «Степи».
Степные пейзажи Гоголя просторны и многокрасочны, степь у него — зелено-золотой океан, по которому брызнули миллионы соцветий; сами названия трав и цветов тщательно подобраны, ярко декоративны: «Сквозь тонкие, высокие стебли травы сквозили голубые, синие и лиловые волошки; желтый дрок выскакивал вверх своею пирамидальною верхушкою; белая кашка зонтикообразными шапками пестрела на поверхности; занесенный, Бог знает откуда, колос пшеницы наливался в гуще».
Цветовая насыщенность гоголевского слова и его контрастность так сильны, что временами его фраза производит впечатление вспышки: «Иногда ночное небо в разных местах освещалось дальним заревом от выжигаемого по лугам и рекам сухого тростника, и темная вереница лебедей, летевших на север, вдруг освещалась серебряно-розовым светом, и тогда казалось, что красные платки летели по темному небу».
У Чехова важнее звучание слова, его тональность и лад; в его описаниях несравненно меньше колоритных названий — «сжатая рожь, бурьян, молочай, дикая конопля, — все побуревшее от зноя…», но тем больше в них олицетворений и звуков.
Все, что у Гоголя дано живописно и в психологическом плане нейтрально, у Чехова олицетворено.
«Из травы поднималась мерными взмахами чайка и роскошно купалась в синих волнах воздуха» («Тарас Бульба»).
«Летит коршун над самой землей, плавно взмахивая крыльями, и вдруг останавливается в воздухе, точно задумавшись о скуке жизни…» («Степь»).
Коростель здесь «не понимает, в чем дело», встревоженные чибисы плачут и жалуются на судьбу — «для кого они кричат и кто их слушает на этой равнине, Бог их знает, но в крике их много грусти и жалобы…».
Костер, порождавший в «Тарасе Бульбе» сложную игру багрянца и тьмы, в «Степи» становится почти живым существом: «от костра осталось… два маленьких красных глаза…».
Чехов сохранил лишь один из повествовательных приемов Гоголя — гиперболическую дальнозоркость, позволяющую раздвинуть пространство и отчетливо различать и описывать подробности, недоступные реальному зрению.
В «черной точке», мелькнувшей на горизонте «Тараса Бульбы», прорисовываются черты татарина: «маленькая головка с усами уставила издали на них узепькие глаза свои…». Так Егорушка в подобной же черной точке различает, как два перекати-поле «столкнулись в голубой вышине и вцепились друг в друга, как на поединке». Но и в данном случае у Гоголя получился портрет; у Чехова же — олицетворение и метафора, навеянные былинами и сказаниями, почти такими же древними, как сама степь.
Утверждая, что все большие повести Чехова «страдают отсутствием органической целостности и часто представляют лишь группу рассказов», что в этом смысле Чехов «едва ли не конченный человек», один из критиков завершил свой отзыв старой строкой, припомнившейся как бы непроизвольно: «Черт вас побери, степи! Как вы хороши у Чехова».
В «Степи» нет столь откровенных, как во многих других случаях, обращений к слову или имени Гоголя: ее стилистика скорее контрастирует, чем соотносится с эпическим и живописным стилем «Тараса Бульбы». Но начитанность и память, на которые и рассчитывал Чехов, безошибочно вели читателя к гоголевскому степному царству…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: