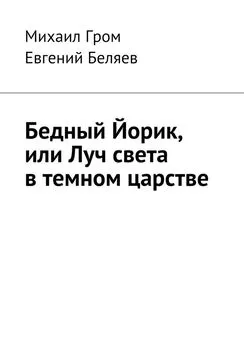Михаил Громов - Чехов
- Название:Чехов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:1993
- Город:Москва
- ISBN:ISBN 5-235-01990-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Громов - Чехов краткое содержание
Биография великого русского писателя Антона Павловича Чехова (1860–1904), основанная на серьезном, глубоком анализе творчества и дополненная архивными фотографиями, открывает новые, неожиданные грани жизненной и писательской судьбы, позволяет почувствовать его душевное одиночество: «как я буду лежать в могиле один, так в сущности я и живу одиноким».
Широта и разнообразие фактического материала, достоверное изображение эпохи и окружения Чехова, нетрадиционный подход к его биографии, любовь к своему герою — вот что отличает книгу Михаила Петровича Громова. Она рассчитана на самый широкий круг читателей.
Чехов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В 1904 году Авилова писала М. П. Чеховой: «Я вовсе не хочу инсинуировать, что я его хорошо знала, что и я была для него хоть чем-нибудь. Нет, я его, вероятно, плохо знала… У меня много его писем. Но я не знаю, как он относился ко мне. Мне это очень тяжело».
Отношения между М. П. Чеховой и Л. Авиловой прервались с тех пор навсегда.
«…Грустно мне, что я Вам чужда и, возможно, неприятна. Мы не сошлись с Вами когда-то в одном вопросе, и Вы огорчились тогда до слез. С тех пор я считала, что Вы не хотите больше иметь со мной никаких отношений» (письмо 14 апреля 1939 г.).
Не дошли до нас и автографы писем Чехова, похищенные у Л. Авиловой в 1919 году (они известны по машинописным копиям, которые были сделаны М. П. Чеховой для первого шеститомного издания чеховских писем).
Нужно верить: существовало еще одно письмо, подписанное «Алехин». В свое время оно не было показано М. П. Чеховой, и копия с него не снималась. Письмо было утрачено в том же 1919 году, но текст его запомнился наизусть так ясно, что Авилова записала его для себя от слова до слова.
По воспоминаниям Авиловой, «Алехин» отвечал на ее поздравление с женитьбой. Она узнала, что он один в Ялте, а Книппер в Москве, и написала записочку: «Была ли наша любовь настоящая любовь? Но какая бы она ни была, настоящая или воображаемая, как я благодарна Вам за нее! Из-за нее вся моя молодость точно обрызгана сверкающей душистой росой. Если бы я умела молиться, я молилась бы за Вас. Я молилась бы так: Господи! Пусть он поймет, как он хорош, высок, нужен, любим. Если поймет, то не может не быть счастлив».
Ответ она поместила в мемуарах, потом он был напечатан в чеховском томе «Литературного наследства» и включен в академическое издание его сочинений и писем, с оговорками, что текст восстановлен «по памяти»:
«Низко, низко кланяюсь и благодарю за письмо. Вы хотите знать, счастлив ли я? Прежде всего, я болен. И теперь я знаю, что очень болен. Вот Вам. Судите, как хотите. Повторяю, я очень благодарен за письмо. Очень.
Вы пишете о душистой росе, а я скажу, что душистой и сверкающей она бывает только на душистых, красивых цветах.
Я всегда желал Вам счастья, и, если бы мог сделать что-нибудь для Вашего счастья, я сделал бы это с радостью. Но я не мог.
А что такое счастье? Кто это знает? По крайней мере я лично, вспоминая свою жизнь, ярко сознаю свое счастье именно в те минуты, когда, казалось тогда, я был наиболее несчастлив. В молодости я был жизнерадостен — это другое».
27 ноября 1939 года Авилова отметила в дневнике: «Я сегодня уничтожила копию письма Алехина. Жалко. Я сделала ее после того, как погиб оригинал. Помнила каждое слово, даже длину строк. Я написала все точь-в-точь так же, даже подражая мелкому почерку А. П. Так вышло похоже, что меня это утешило. И я долго хранила эту копию. А сегодня уничтожила. Вот почему: нашли бы ее после моей смерти и, конечно, узнали бы, что это фальшивка, подделка. Кто бы мог понять, зачем она была сделана? Не возбудило бы это подозрения? Не отнеслись бы с недоверием к моей рукописи? Одна ложь все портит. Если такой явный, наивный обман, как верить словам? Почему не выдумка, что А. П. говорил мне, что меня надо любить «чисто и свято»? Почему не выдумка, что в клинике он не смог скрыть своей любви? «Один день… для меня». Один обман — все обман, все ложь, все подделка, как письмо».
В 1939 году, когда была сделана эта запись, Л. А. Авиловой исполнилось семьдесят пять лет; она заканчивала работу над «мемуарным романом», напечатанным впоследствии под заглавием «Чехов в моей жизни» (первоначально — «Роман моей жизни» и «О любви»).
Время ушло, оставив в памяти лишь самое важное. На полях своей рукописи Л. Авилова записывала: «Тяжело жить. Надоело жить. Противно жить. И я уже не живу… Но все больше и больше люблю одиночество, тишину, спокойствие. И мечту. А мечта — это А. П. И в ней мы оба молоды, и мы вместе. В этой тетради я пыталась распутать очень запутанный моток шелка… любили ли мы оба? Он? Я?.. Я не могу распутать этого клубка».
В этих словах не только нет, но и не может быть пи тени выдумки или неправды.
В первоначальных мемуарных очерках о Чехове, опубликованных в 1910 году, Авилова не задавалась такими вопросами и пе касалась любовной темы. Это был краткий, будничный по тону рассказ о знакомстве с Чеховым: приводились цитаты из писем, коротко рассказывалось о первой встрече, о премьере «Чайки» и посещении клиники Остроумова весной 1897 года. Ничего «личного» не было и в заметке «На основании договора» — о помощи в собирании материалов для собрания сочинений. И позднее, в дневнике 1918 года, Авилова не ставила Чехова на первое место в литературе и тем более в своей жизни.
Первым она считала Л. Н. Толстого, за ним — Горького, о Чехове же писала так: «Про Чехова я пе сказала бы, что он великий человек и великий писатель. Конечно, нет!»
«Мемуарный роман» вызвал волну разногласий и споров (о нем писали и М. П. Чехова, и Бунин) н привел к тому, что имя Авиловой вернулось на страницы беллетристических сочинений о Чехове. Письма к ней перечитывались с особенным интересом. В них искали (и, разумеется, будут искать) лирическую тему, более важную, чем литературные и житейские новости и заботы, связавшие при жизни этих людей.
Подтекст нужен, поскольку текст в этом смысле не дает ничего. По стилю и тону письма к Авиловой очень сдержанны и спокойны — никакого сравнения с гораздо более вольным и легким тоном переписки с Шавровой, не говоря уж о Мизиновой. Основная тема писем — литературный труд, сосредоточенная, тщательная и кропотливая работа над стилем и языком короткого рассказа: «…писательница… должна не писать, а вышивать на бумаге, чтобы труд был кропотливым, медлительным».
Чехов вообще охотно делился мыслями о литературе и опытом, с веселой взыскательностью критиковал рассказы Б. М. Шавровой, М. В. Киселевой, А. Писаревой. Но в письмах к Авиловой был осторожнее в критике, осмотрительнее в советах. По-видимому, даже самые дружелюбные замечания воспринимались с обидой и вызывали отпор: «Вы петербуржица, Вы не согласитесь оо мной ни в чем — уж такова моя судьба».
Сохранившиеся письма Авиловой посвящены в основном сборнику рассказов, который она тогда собирала с благотворительной целью (шла русско-японская война). Здесь есть строки, смысл которых объяснить не удается: «Я все боялась, что я умру и не успею сказать Вам, что я Вас всегда глубоко уважала, считала лучшим из людей. И что я же оклеветала себя в Вашем мнении…»
Авилова писала свои воспоминания, как воссоздавала текст утраченного письма: следуя интонациям Чехова, его словарю, его разборчивому, тонкому почерку. Между тем, как сказал современный французский филолог Ролан Барт, «благодаря своему языку человек открыт для разгадки, его выдает сама правдивость языковой формы, неподвластная его — своекорыстному или благородному — желанию солгать о себе».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: