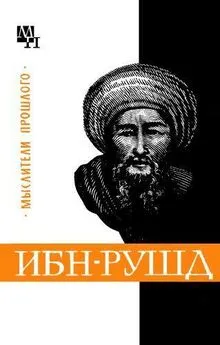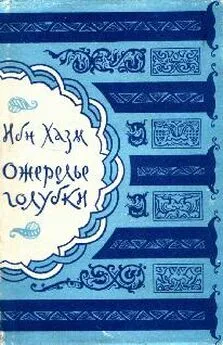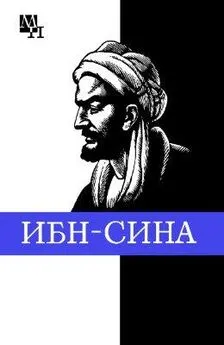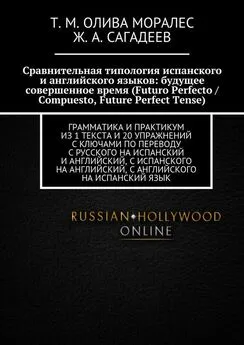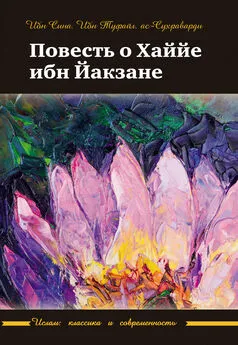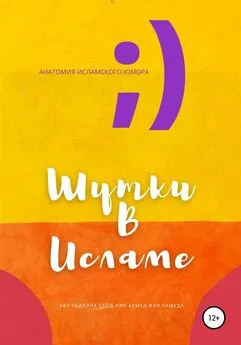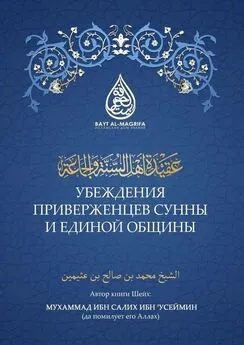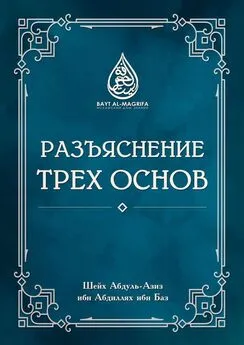Артур Сагадеев - Ибн-Рушд (Аверроэс)
- Название:Ибн-Рушд (Аверроэс)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Наука
- Год:1973
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Артур Сагадеев - Ибн-Рушд (Аверроэс) краткое содержание
В книге дается анализ мировоззрения великого арабского мыслителя XII в. Ибн-Рушда (известного также под латинизированным именем Аверроэс), чье творчество ознаменовало вершину философской мысли мусульманского средневековья и оказало большое влияние на развитие западноевропейской философии XIII–XVI вв. В «Приложении» — перевод с арабского трактата Ибн-Рушда о соотношении религии и философии.
Ибн-Рушд (Аверроэс) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В самом его начале, цитируя коранический стих: «Назидайтесь, обладающие зрением!», Ибн-Рушд истолковывает первое слово в смысле «исследуйте», «подвергайте теоретическому рассмотрению», а затем, пользуясь повелительной формой всего высказывания, интерпретирует его как прямое указание всевышнего культивировать натурфилософию. Между тем из самого коранического текста вовсе не явствует аутентичность предлагаемого Ибн-Рушдом толкования, так что Ибн-аль-Араби мог точно с таким же основанием тому же слову в том же стихе придать совершенно отличный — мистико-интуитивистский — смысл.
В другом месте Ибн-Рушд приводит слова Корана: «Он тот, кто ниспослал тебе писание; в нем есть стихи, расположенные в порядке, которые — мать книги; и другие — сходные по смыслу. Те же, в сердцах которых уклонение, — они следуют за тем, что в нем сходно, домогаясь смятения и домогаясь толкования этого. Не знает его толкования никто, кроме Аллаха. И твердые в знаниях говорят: „Мы уверовали в него; все — от нашего господа“» (III, 5) [6] Здесь и далее при ссылках на Коран в скобках указывается римской цифрой сура и арабской — стих. — Прим. ред.
. Казалось бы, это высказывание категорически возбраняет давать Корану какие бы то ни было толкования, и уж тем более стихам, которые «сходны по смыслу», или, попросту говоря, двусмысленны, лишены четкости. Но Ибн-Рушда это нисколько не смутило. Поскольку в арабском языке того времени не существовало никакой пунктуации, он отредактировал последнюю фразу так: «Не знает его толкования никто, кроме Аллаха и твердых в знаниях». После этого ему оставалось только переосмыслить выражение «твердые в знаниях» как обозначающее философов и попутно еще раз отвергнуть притязания теологов на правомочность «диалектического» толкования «божьего слова» — для богословов Ибн-Рушд рекомендовал сохранять «пунктуацию» с «точкой» после слов «никто, кроме Аллаха».
Давая «священным» текстам трактовку, отвечавшую интересам развития научного знания, Ибн-Рушд рассчитывал на отмеченную выше недостаточную институализированность в исламе форм принятия решений относительно спорных вопросов мировоззрения. Но его расчеты не оправдались. Жизнь показала, что в «теологизированном» обществе решающее слово принадлежит богословию, выносится ли оно относительно вопросов, входящих в сферу «практического» разума, или проблем разума «теоретического». Несмотря на то что в мусульманском мире действительно не было ни церковных соборов, которые регламентировали бы толкования «священных» текстов, ни «отцов церкви», чьи учения пользовались бы силой непререкаемого авторитета, ни инквизиции, которая угрожала бы отступникам от санкционированной системы взглядов на бытие пытками и казнью, тем не менее андалузское духовенство добилось того, что Ибн-Рушд подвергся репрессиям по эдикту халифа — друга философа и единственного человека в государстве, формально сочетавшего в своем лице светскую власть и власть духовную. И случилось это вскоре после того, как кордовский мыслитель завершил работу над трактатом об отношении философии к религии.
Глава III. Учение о природе
1. О вечности мира
Борьба Ибн-Рушда против бесполезной и даже вредной во всех отношениях богословской братии отражала стремление передовых умов его времени найти формально-юридическую опору для достижения главной цели — дать сущему такое толкование, которое бы в максимальной степени устранило из него вмешательство божественного промысла. Борьба за эмансипацию бытия от влияния сверхъестественных сил велась во многих направлениях, но ключевым вопросом в ней, по мнению как поборников научного знания, так и их противников из лагеря богословия, был вопрос о вечности или сотворенности мира. Дальновидный Газали прекрасно оценил значение этой проблемы, заявив в «Опровержении философов», что признание вечности мира и вытекающее из этого допущение бесконечной серии естественных причин делают излишним и постулирование «первой причины», т. е. ведут практически к атеизму.
В выдвигаемых Ибн-Рушдом доводах в пользу несотворенности мира можно различить три способа аргументации: основанный на доказательствах, приводимых для подтверждения данного тезиса Аристотелем; базирующийся на аллегорическом толковании Корана; полемический, используемый для защиты учения восточных перипатетиков от нападок Абу-Хамида Газали и богословов из школы аль-Ашари.
Первый способ аргументации представляет мало интереса, поскольку он повторяет доводы Стагирита. Этот способ характерен для комментариев Ибн-Рушда к работам Аристотеля, особенно к «Физике», к книге «О возникновении и уничтожении» и к «Метафизике». Напротив, второй способ, будучи совершенно чуждым «аподейктическому» образу мышления Ибн-Рушда, интересен, однако, тем, что представляет собой образец практического применения метода аллегорического толкования к решению этого важнейшего мировоззренческого вопроса. С этим видом «доказательства» мы встречаемся в «Рассуждении, выносящем решение…», где на основе «анализа» стихов Корана, касающихся сотворения мира, утверждается, что речь в них идет лишь об изменении формы универсума, бытие которого бесконечно как в прошлом, так и в будущем. Согласно Ибн-Рушду, слова Корана «И он тот, который создал небеса и землю в шесть дней, и был его трон на воде» предполагают «некое бытие, предшествовавшее данному бытию», т. е. указывают на безначальность существования Вселенной, а слова «…в тот день, когда земля будет заменена другой землей…» [7] В XIX в. азербайджанский просветитель Аббас-Кули в сочинении «Тайны небесного царства» будет толковать эти слова Корана как указание на беспрерывное рождение во Вселенной новых звезд и солнечных систем.
предполагают «другое бытие после данного бытия», или, иначе говоря, подразумевают неуничтожимость мира в будущем.
«Несолидность» подобного рода доказательства извечности и нетленности Вселенной была, однако, столь очевидна, что Ибн-Рушд и не пытался воспользоваться им даже в своей полемике с теологами на страницах «Опровержения опровержения». В упомянутой книге мы встречаемся с третьим способом аргументации, представляющим наибольший историко-философский интерес. Разделы, посвященные обсуждению данного вопроса, занимают добрую четверть этого фундаментального труда, что само по себе позволяет нам изложить содержащуюся в них полемику не иначе как лишь в весьма упрощенной и схематической форме.
Дискуссия между авторами двух «Опровержений» включает в себя доводы восточных перипатетиков («философов»), контраргументы Газали (и ашаритов) и оспаривающие состоятельность последних рассуждения Ибн-Рушда. Спор ведется по поводу четырех доказательств вечности мира, рассматриваемых Абу-Хамидом Газали в «Опровержении философов».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: