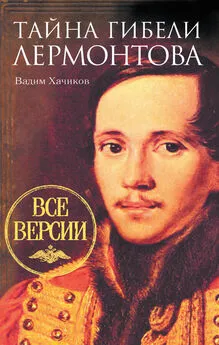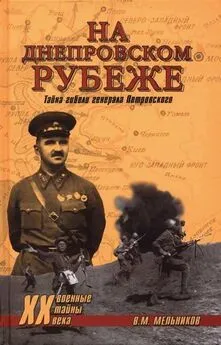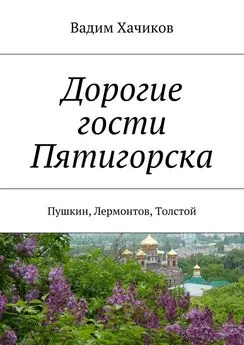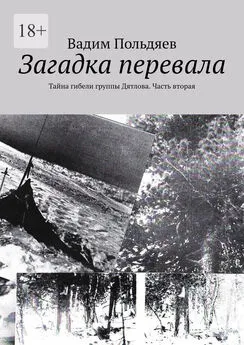Вадим Хачиков - Тайна гибели Лермонтова. Все версии
- Название:Тайна гибели Лермонтова. Все версии
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «АСТ»c9a05514-1ce6-11e2-86b3-b737ee03444a
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-086820-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вадим Хачиков - Тайна гибели Лермонтова. Все версии краткое содержание
Перед вами настоящее журналистское расследование обстоятельств гибели Лермонтова. Автор собрал и заново рассмотрел все версии дуэльной истории июля 1841 года. Грани последнего лета. Люди и страсти. Балы и интриги. Как все происходило? Какие тайны скрывает гора Машук? Лермонтов и Мартынов – кто виноват? Дуэль или убийство?
Тайна гибели Лермонтова. Все версии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Словом, почти любой, кого ни возьми, годился для того, чтобы, уничтожив или скомпрометировав его, заслужить монаршую милость. Но почему-то никому другому из «ненавидимых» императоров личностей не пытались устроить дуэль – только Лермонтову. Почему?
Предположим, что ненависть пятигорских врагов Лермонтова, существуй они на самом деле, вызывал острый язык поэта, а также его «шалости» и «гусарские выходки». Но ведь завидным острословием в лермонтовском окружении отличались многие. Так, о князе Александре Долгоруком говорили, что «язык у него был как бритва». Слава острослова сопровождала и Льва Пушкина: «К нам присоединился Л. С. Пушкин, – вспоминала Эмилия Шан-Гирей, – который так же отличался злоязычием». Несомненно, что и остальные представители светской молодежи могли и сказать острое слово, и бросить обидную шуточку. Мы просто мало знаем о том, что вытворяли в Пятигорске Дорохов, Трубецкой, братья Долгорукие, Ламберт и прочие.
Чем еще мог Михаил Юрьевич так уж выделяться из своего окружения? Может быть, мифических врагов раздражало то, что он как-то подчеркивал свою значимость? Нет, о подобном его поведении ничего не известно. Это мы сегодня выделяем Лермонтова среди прочих, зная о его необыкновенном поэтическом даре. А тогда и всем остальным в компании было чем выделиться. Например, благодаря своей высокой или знаменитой родне, как Льву Пушкину, князю Васильчикову, юнкеру Бенкендорфу. Или своими дерзкими, даже порой вызывающими поступками, какими прославились Дорохов, Безобразов, Трубецкой. Так что и здесь Лермонтов, даже имей он такое желание, не мог особенно отличаться от окружающих приятелей.
Конечно, Лермонтов писал стихи. Но этим тогда «грешили» многие. Уже в XX веке Александр Аркадьевич Столыпин писал в своей «Семейной хронике»: «В то время все не только писали стихи, но стихотворное искусство входило в образование юношества, как обязательный предмет, наравне с музыкой и рисованием. Теперь стихотворное творчество мальчика было бы отмечено как исключительное призвание, но тогда это было общим правилом». Не забудем, что видной фигурой в лермонтовской компании был Лев Пушкин, брат уже признанного великим поэтом Александра Сергеевича, который и сам бойко рифмовал. Не забудем, что рядом с Лермонтовым находился тем летом Дмитриевский, имевший славу поэта. Наконец будем помнить о том, что стихи писали также Дорохов, Раевский и Мартынов. Конечно, разницу между ними и Лермонтовым в то время уже понимали, но – немногие. И эти немногие знали цену его дара, нуждавшегося в бережном отношении, – такие люди, конечно же, не стали бы желать ему смерти. Для всех же прочих, которые стихов Лермонтова не читали, он на общем фоне даже своим поэтическим даром не выделялся.
Но попробуем все же принять на веру соображения о враждебном окружении поэта, которые содержатся в книге П. Висковатова: «Некоторые из влиятельных личностей из приезжающего в Пятигорск общества, желая наказать несносного выскочку и задиру, ожидали случая, когда кто-нибудь, выведенный им из терпения, проучит ядовитую гадину ». Последние слова Висковатов снабжает примечанием: «Выражение, которым клеймили поэта многие. Некоторые из современников и даже лиц, бывших тогда на водах, говоря о нем, употребляли эти выражения в беседе со мною».
Любопытно, что профессор не назвал ни одного конкретного имени. И потому его последователям пришлось тщательно разыскивать гипотетических недругов поэта. Одним из них стали считать князя В. Голицына, будто бы поссорившегося с Лермонтовым и его компанией из-за известного бала. Но эту ситуацию мы подробно рассмотрели, говоря о бале у Грота Дианы. И убедились, что ни о каких враждебных действиях полковника против Лермонтова говорить не приходится.
В число лиц, враждебно настроенных к Лермонтову, пытались включить и полковника Траскина, начальника штаба войск Кавказской линии. Что ж, фигура подходящая. Обладатель весьма непривлекательной внешности, отличавшийся «безобразием лица и уродливою тучностью», он представлялся и носителем непривлекательных человеческих качеств. Подхалим, чинодрал, казнокрад, интриган – таким предстает начальник штаба войск Кавказской линии и Черномории в работах С. Андреева-Кривича, В. Нечаевой, Т. Ивановой, Э. Герштейн. Словом, донельзя гнусная личность! Неудивительно, что он преследовал опального поэта и своими руками плел сети интриг, которые привели к роковой дуэли. И хорошо, что в последнее время В. Вацуро, Д. Алексеев, В. Захаров развеяли большинство наветов на Траскина.
Так, разоблачителям Траскина были очень подозрительны частые приезды полковника в Пятигорск накануне дуэли. Вот, например, что пишет С. Андреев-Кривич:
«…Траскин систематически приезжал в Пятигорск из Ставрополя. В письме к Граббе от 18 июня 1841 г. он… сообщает, что врачи ему предписали шестинедельное лечение щелочными водами, и пишет, что 5 июля, для сопровождения жены Граббе, отправится к Кавказским водам. 4 июля он подтверждает, что выедет 5. До настоящего времени было известно только, что Траскин находился в Пятигорске 16 июля, уже после дуэли… Теперь же становится ясным, что Траскин бывал в Пятигорске и в то время, когда дуэль подготовлялась.
Прекрасно сообразив еще в предыдущем, 1840 г., что значило распоряжение определить Лермонтова в Тенгинский полк, Траскин имел полную возможность быть весьма деятельным в отыскании тех средств, которые отвечали бы намерениям царя относительно поэта».
Приученный ко всеобщей подозрительности исследователь не решается поверить в правдивость упоминаемых Траскиным причин его приездов на Воды – желания с помощью минеральных вод облегчить свои страдания и помочь в том же супруге своего начальника. Между тем обе причины были достаточно основательны: Траскина и в самом деле очень мучила подагра, которая, по мнению врачей, могла вообще лишить его возможности передвигаться. Да и мадам Граббе, серьезно больная, нуждалась в сопровождении достаточно заботливого спутника, каким был подчиненный ее супруга.
Так что, поверив Траскину, увидим: приезжая в Пятигорск, он был озабочен делами лечебными, а вовсе не интригами против Лермонтова. И не имел ни малейшего желания погубить поэта, поскольку относился к нему очень благожелательно. Доказательства? Во-первых, не стоит забывать, что начальник штаба имел ранее самое непосредственное отношение к оформлению документов на представления поручика Лермонтова к наградам за боевые заслуги. И будь он недругом Михаила Юрьевича, наверняка сумел бы сделать так, чтобы документы не попали в Петербург.
Еще важнее отметить, что полковник оказался близок так называемому «ставропольскому кружку», в который входили лучшие представители кавказской военной элиты, отмеченные достаточно высоким уровнем интеллекта, среди которых было немало «ермоловцев». А. Дельвиг, оказавшись в Ставрополе в том же доме, отметил, что Траскин был здесь «совершенно своим человеком». Именно Траскину адресует Граббе свои сожаления по поводу смерти Лермонтова: «Несчастная судьба нас, русских. Только явится между нас человек с талантом – десять пошляков преследуют его до смерти. Что касается до его убийцы, пусть на место всякой кары он продолжает носить свой шутовской костюм». Это – ответ на письмо Траскина, и, как справедливо считает В. Э. Вацуро: «…он весьма знаменателен: Граббе знал, что его корреспондент сочувствует Лермонтову, а не Мартынову, и что к нему в этом случае можно обращаться как к единомышленнику».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: