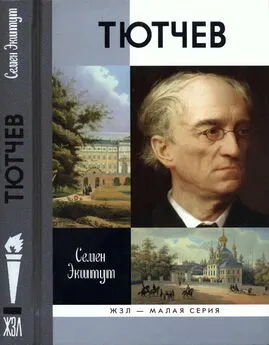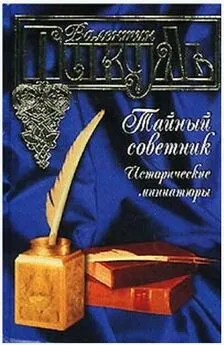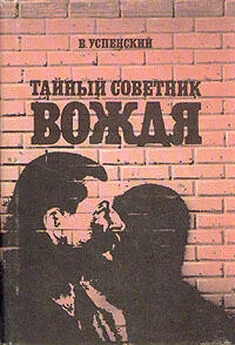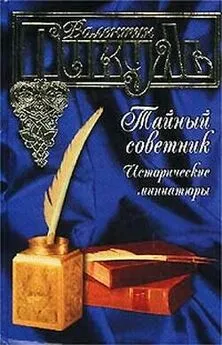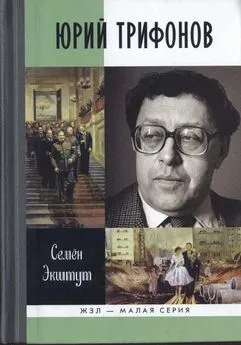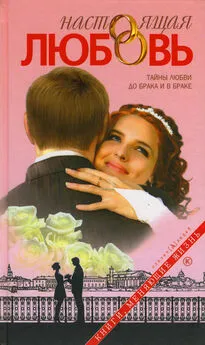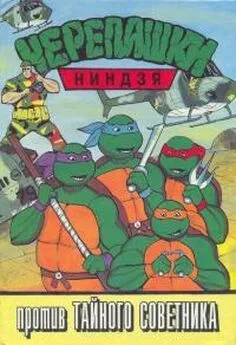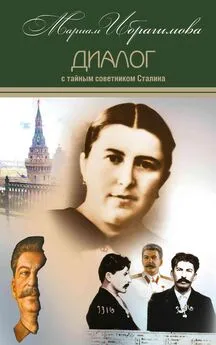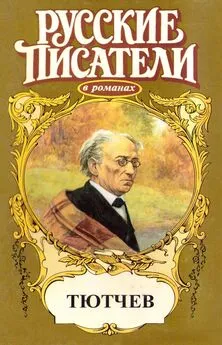Семен Экштут - Тютчев: Тайный советник и камергер
- Название:Тютчев: Тайный советник и камергер
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:2013
- Город:М.
- ISBN:978-5-235-03556-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Семен Экштут - Тютчев: Тайный советник и камергер краткое содержание
Семен Экштут, доктор философских наук, историк, неожиданно поставивший в центр жизнеописания Федора Тютчева его служебное поприще, свой оригинальный замысел объясняет так: показать, из какого житейского «сора», по слову Ахматовой, «растут стихи, не ведая стыда». Дипломат, не сумевший получить сколько-нибудь заметный пост, пророк, чья вещая сила не была оценена современниками, политический мыслитель, за долгую жизнь не нашедший времени привести в систему свои воззрения, поэт, издавший при жизни два небольших сборника, и то не по своей воле, сегодня Тютчев украшает собой первый ряд отечественных классиков. Стихи его разошлись на цитаты, а пророчества актуальны и ныне. Не обходит автор вниманием и семейные драмы, и сердечные перипетии поэта, как нельзя выразительнее подтверждающие его знаменитые строки: «Не верь, не верь поэту, дева; / Его своим ты не зови — / И пуще пламенного гнева / Страшись поэтовой любви!» Почему? Об этом и многом другом читатель узнает в книге.
Тютчев: Тайный советник и камергер - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Мы ждем и верим Провиденью —
Ему известны день и час… {332}
Однако Славянский съезд стал всего лишь поводом для празднеств и банкетов в честь прибывших гостей.
Грядущее возрождение восточных славян и последующее объединение всех славянских народов плохо совмещались с существованием Австрийской империи Габсбургов — и Тютчев проповедовал ее неизбежный распад в будущем. Действительно, во внешней политике империя Габсбургов потерпела ряд неудач, проиграв войны с Сардинским королевством и Францией в 1859 году, с Пруссией и Италией в 1866 году, что привело в конце следующего года к образованию Австро-Венгрии — дуалистической монархии, в которой Венгрия имела автономные права. Тютчев полагал, что это преобразование не спасет страну от неминуемого исчезновения с политической карты, ибо у Австрии ее ахиллесова пята находится повсюду «Австрия развалится и, как повешенный на дереве, будет задушена своей собственной политикой» {333} . До последнего дня своей жизни он так и не смог простить Австрии ее лицемерной политики во время Крымской войны и считал, что Россия должна поддерживать национально-освободительное движение славянских подданных Австро-Венгрии. Брат Эрнестины Федоровны барон фон Пфеффель славянофилам не сочувствовал и не скрывал своего беспокойства по поводу пророчеств глубокоуважаемого им Федора Ивановича: «Боюсь, дорогие друзья, что движение, которое поддерживает своим талантом ваш муж и отец, споспешествует прежде всего революции и может повлечь за собой волнения, опасные не только для Австрии, но и для всеобщего мира. Разве мало у нас в Европе уже сейчас поводов для потрясений, разве мало воспламеняющегося материала, чтобы была надобность подбрасывать в него еще и эти пылающие головни?» {334}
Бег времени продолжался, в избытке появлялись новые поводы для социальных и политических потрясений — и настоящее мучительно тревожило нашего героя. За два дня до начала Франко-прусской войны 1870 года Тютчев выехал из Петербурга в Карлсбад на лечение и, к счастью, успел проехать через Пруссию до официального введения различного рода ограничений для иностранных путешественников. «Война объявлена, — писал Тютчев жене 6/18 июля 1870 года из Варшавы. — Можно сказать, что это начало конца света» {335} . Он полагал, что поражение Франции неминуемо. Эта страна станет жертвой прогнившей современной цивилизации. Франция заслужила свое падение «глубоким внутренним разложением нравственного чувства» {336} . Однако методическая жестокость победителей, ужасающая «правильность» избиений и грабежей, угроза бомбардировки Парижа — всё это потрясло поэта. «Это гунны, ходившие в школу» — так сказал он о пруссаках {337} .
Федор Иванович предвидел, что неизбежное поражение Франции логически приведет к объединению Германии под верховенством Пруссии. Возникновение единой и сильной Германии станет угрозой для России. В письме дочери Анне Тютчев высказал прогноз, который показался ей фантастическим: Германская империя «в итоге неизбежно обратится против нас и навлечет на нашу бедную страну несчастья, более ужасные, чем те, которые ныне поразили Францию» {338} . История подтвердила справедливость этих слов.
Ужасные несчастья угрожали России не только извне. 4 апреля 1866 года мелкопоместный дворянин Д. В. Каракозов — при свете дня и на глазах у огромной толпы — совершил неудачное покушение на Александра II, который прогуливался у решетки Летнего сада. Федор Иванович был потрясен, свои чувства выразил в стихах, которые, однако, не посчитал нужным напечатать.
Всё этим выстрелом, всё в нас оскорблено,
И оскорблению как будто нет исхода:
Легло, увы, легло позорное пятно
На всю историю российского народа! {339}
(«Так! Он спасен! Иначе быть не может!..»)
Уже тогда поэт понял, что это было всего лишь первое предупреждение, данное власти. За ним неизбежно должны были последовать следующие.
Первого июля 1871 года в Петербурге начался судебный процесс над участниками студенческих волнений и членами общества «Народная расправа», основанного в 1869 году Сергеем Геннадиевичем Нечаевым. Этот революционер-анархист исповедовал принцип «цель оправдывает средства» и сознательно применял методы мистификации и провокации. В своем «Катехизисе революционера» он проповедовал разрыв участников революционного движения с законами, приличиями и нравственностью существующего мира. Эти аморальные методы вызвали протест члена организации студента Иванова, и тогда Нечаев организовал его убийство и скрылся за границу. Обвинение было выдвинуто против 77 человек, но самого Нечаева на скамье подсудимых не было.
Тайный советник Тютчев внимательно следил за процессом, аккуратно посещал все судебные заседания и в письме дочери выразил свое отношение к процессу и новой системе судопроизводства. «Первая часть процесса только что закончилась, и… вынесенный приговор должен казаться справедливым. Я был поистине восхищен талантом некоторых адвокатов. <���…> Право, поразительно, как эти новые судебные установления быстро привились у нас. Вот где могучий зародыш новой России и лучшее ручательство ее будущности. Что касается самой сути процесса, то она возбуждает целый мир тяжелых мыслей и чувств. Зло пока еще не распространилось, но где против него средства? Что может противопоставить этим заблуждающимся, но пылким убеждениям власть, лишенная всякого убеждения? Одним словом, что может противопоставить революционному материализму весь этот пошлый правительственный материализм?» {340} , [27]
Для Тютчева были очевидны отрицательные ответы на все эти риторические вопросы. И он опасался, что новая, пореформенная Россия не имеет в запасе достаточного времени, чтобы укрепиться перед лицом неизбежного в будущем нового революционного натиска. Власть уповала только на репрессивные меры, собственные материальные силы казались ей неисчерпаемыми, и это обстоятельство создавало, по мнению Тютчева, ошибочное ощущение безопасности. «Если власть за недостатком принципов и нравственных убеждений переходит к мерам материального угнетения, она тем самым превращается в самого ужасного пособника отрицания и революционного ниспровержения, но она начинает это осознавать только тогда, когда зло уже непоправимо» {341} .
Впрочем, достаточные поводы для потрясений можно было найти не только в сфере практической политики. Частная жизнь нашего героя шла своим чередом и по-прежнему была далека от безмятежности. Федор Иванович начал оказывать знаки внимания Елене Карловне Богдановой, даме постбальзаковского возраста, пережившей двоих мужей (один из которых запутался в денежных махинациях и покончил жизнь самоубийством). Исследователи не скрывают своего недоумения по поводу характера этих отношений. Дошедшие до нас тютчевские письма, адресованные этой даме, не позволяют однозначно ответить на вопрос о том, что именно связывало Федора Ивановича с Еленой Карловной, помимо общих воспоминаний о покойной Лёле, чьей подругой была госпожа Богданова. «Что это — подлинное зарево нового пожара, или зарницы недавно пробушевавшей и еще не совсем умолкнувшей грозы, роковое наследие незаконной страсти, естественный и неизбежный мост от той, ушедшей, к этой, оставшейся, бывшей связанной с покойной узами дружбы и через нее сделавшейся известной и близкой осиротевшему старцу? Последняя вспышка темперамента на пороге вечного успокоения, или “боготворение” поэта, не требующее разделения, но жизнь без которого для него невозможна? Любовь это, или простая дружба? Или всё вместе?..» {342}
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: