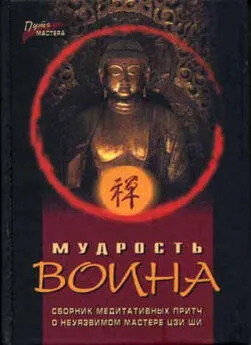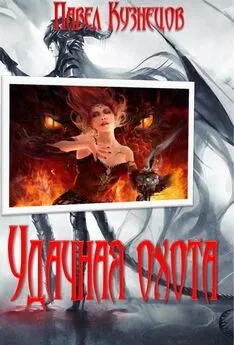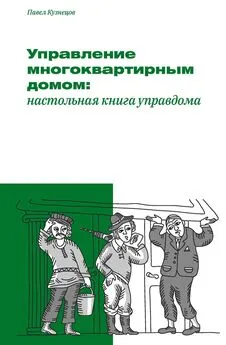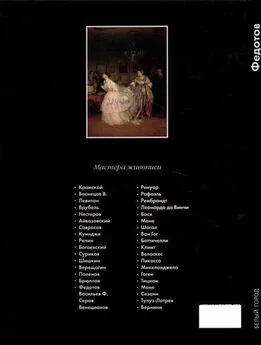Эраст Кузнецов - Павел Федотов
- Название:Павел Федотов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Эраст Кузнецов - Павел Федотов краткое содержание
Книга воссоздает драматические обстоятельства жизни и творчества выдающегося русского живописца и графика первой половины XIX века Павла Федотова, автора знаменитых полотен «Сватовство майора», «Вдовушка», «Анкор, еще анкор!», «Игроки» и др. Черты личности художника вырисовываются в воспоминаниях современников, в собственных литературно-поэтических сочинениях Федотова и, главное, в его живописи.
Автор — известный искусствовед и историк Эраст Давидович Кузнецов, уделяя особое внимание уникальной роли Федотова в становлении русского бытового жанра, раскрывает смысл, своеобразие и значение его творчества.
Павел Федотов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Одно соображение казалось ему особенно важным, и он следовал ему в своих поисках: «Быт московского купечества знакомее, чем быт купцов в Петербурге; рисуя фигуры добрых старых служителей, дядей, ключниц и кухарок, я, сам не зная почему, переношусь мыслью в Москву…» Наверно, содержится тут вполне естественное преувеличение, но что именно впечатления детства, проведенного в Москве, пробудили в Федотове жгучий интерес к изнаночной, неявленной стороне человеческой жизни и составили, как он сам выразился, «основной фонд» его дарования, — то это несомненно так. Тем более приложимы эти слова к «Сватовству майора». Михаил Погодин, отзываясь впоследствии о картине, совсем недаром обмолвился: «…завтра вам покажется, что не картину видели, а что были в гостях у этого купца на его квартире в Таганке…» — иными словами, воспринял все изображенное семейство как московское. В Петербурге купцы водились разные, и жизнь они вели разную, но среди них уже немало завелось таких, которые старались выглядеть негоциантами и коммерсантами. Федотову же необходим был иной пошиб — патриархальный, при котором потуга на светскость казалась бы особенно неуклюжей, как у медведя, танцующего кадриль. Этот пошиб был скорее московский.
Тут многое решал верно избранный Отец, глава семейства. Отца Федотов искал долго. Измаялся, бродя по Гостиному и Апраксину дворам, по Невскому проспекту, «присматриваясь к лицам купцов, прислушиваясь к их гонору и изучая их ухватки», пока, наконец, у Аничкова моста не встретил желанного. Проводил незаметно его до самого дома, выпытал у дворника имя, кое-какие привычки и разные полезные сведения о роде занятий и семье, потом сумел и познакомиться. «Волочился за ним целый год» — это уж явное преувеличение, года не могло быть, на всю картину ушло менее того, но преувеличение объяснимое — так намучился, уговаривая попозировать. Купец считал это занятие «грехом и дурным предзнаменованием», но в интересах дела Федотов умел становиться и вкрадчивым, и изворотливым, и настырным: допек-таки старика.
«Ни один счастливец, которому было назначено на Невском проспекте самое приятное рандеву, не мог более обрадоваться своей красавице, как я обрадовался моей рыжей бороде и толстому брюху», — вспоминал он потом, и в признании этом содержится более глубокий смысл, чем может показаться. Купец — ни сложением, ни лицом вовсе не Аполлон — был для него предметом эстетическим, способным заставить любоваться собою как всяким ярким явлением жизни, характерным типом. Таким Федотов и перенес его в картину, осветив своим ласковым отношением.
Да и все герои его будущей картины были ему по-своему милы. Он давно ушел от сепий, населенных малоприятными людишками. Ушел и от «Свежего кавалера» с его жалким и неприятным героем. Ушел и от «Разборчивой невесты», персонажи которой не вызывали горячей симпатии, хотя о них грех было бы судить худо. К новым своим образам он относился так же, как относился к живым, знакомым ему людям — сочувственно, терпимо, со снисходительностью хорошо понимающего их человека. Может быть, даже еще теплее, чем к живым: все-таки это были как-никак его создания, его дети, и он любил их, как любят детей, — кто хитроват, кто робок, кто прожорлив не в меру — но всех их любишь, видя их слабости.
Да, лицемерят, хитрят, плутуют — но вовсе не злые люди; они смешны, но не противны. Не они дурны, а жизнь дурна, однако другой им не дано, и с этой, заведенной от века и не ими, приходится сообразовываться. Что же дурного в том, что купец хочет выдать дочь за благородного — это ведь происходит в стране, где и благородный не вполне защищен от произвола, а уж купца любой квартальный может оттаскать за бороду (не Англия!).
И, право же, можно полукавить, сыграть невинную комедию, потрафить собственному самолюбию.
У каждого из них была своя правда, и каждого он понимал. Ту же Мать — крупную, преждевременно располневшую женщину, в чьем отяжелевшем лице легко видны остатки угасшей спокойной и ясной русской красоты. Пусть она и разоделась в не совсем идущее ей сияющее переливами атласное платье и на плечи накинула тонкую дорогую шаль, не изменив лишь обычаю повязывать голову платком. Но она обуяна материнским желанием пристроить получше дочь и проникнута ответственностью, которая лежит на ней: глыбисто-тяжеловесная, она кажется подлинной хозяйкой в доме, вертящей всем, как ей надо (домострой домостроем, а в реальной жизни все складывается порою куда сложнее). Она и перепуганную дочь приведет в чувство, и мужа незаметно одернет и направит, а тех, задержавшихся в углу у стола, удалит одним повелительным взглядом.
Ту же Сваху, сноровисто вершащую свои обязанности; ее льстивая угодливая улыбка ничего плохого о ней не говорит, это всего лишь средство ее ремесла, причем ремесла нелегкого — чего не натерпишься, чего не выстрадаешь: и взашей выставят, и опозорят на людях, и обведут при окончательном расчете. Уж куда лучше в ее годы не мыкаться по чужим домам, а сидеть в своем собственном. И она, конечно, играет роль… Да кто же не играет какую ни есть роль в этом торжище житейской суеты, что именуется нашим миром, в этой подлой и пошлой жизни, господа? Кто те гордые и величавые, кто могут оставаться самими собою среди мелких страстей человеческих, — разве что одни Манфреды…
Что же до Дочери, то и в нее некому бросить камень. Начать с того, что в комедии, разыгравшейся на подмостках купеческого дома, ее роль хоть и главная, но страдательная: нарядили, вывели, строго наказав, как себя вести. И она, еще не приученная жизнью к лицемерию, ведет себя натуральнее всех. «Сколько милой трогательности в сконфуженности невесты, стыдящейся своих, открытых для нескромного взгляда, плеч и метнувшейся в сторону движением, в котором стремительность своеобразно сочетается с плавностью. И вся девушка напоминает большую светлую птицу на взлете…» 22Ни фальши, ни корысти, ни себялюбия не проглядывает в этом трогательном и прелестном существе, самой природой предназначенном для жизни, пусть не очень духовной и совсем не героической, но естественной — стать женой, завести детей, обогревать дом теплом своей женской души. Разве мало этого, чтобы оправдать человеческое существование?
Своя правда и у Майора, и кому, как не Федотову, было понять этого строевика — если и не воевавшего, то все равно загубившего полжизни на караулы, смотры и разводы и сейчас заслужившего право на покой. Сделка? Так ведь ничего не дается даром в этом мире, а он по крайней мере расплачивается не чужим, не ворованным, а своим, кровным. Молодится? Так ведь женится на молодой, и приходится стараться, чтобы не стариком выглядеть и будущую родню не напугать.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: