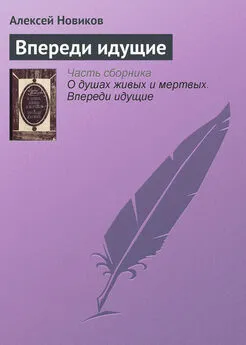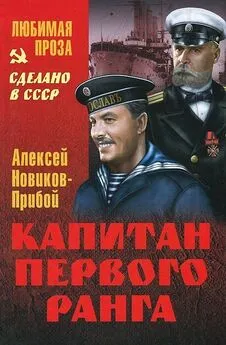Алексей Новиков - Впереди идущие
- Название:Впереди идущие
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент ФТМ77489576-0258-102e-b479-a360f6b39df7
- Год:1973
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-073232-6, 978-5-271-34492-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алексей Новиков - Впереди идущие краткое содержание
Книга А.Новикова «Впереди идущие» – красочная многоплановая картина жизни и борьбы передовых людей России в 40-х годах XIX века. Автор вводит читателя в скромную квартиру В.Г.Белинского, знакомит с А.И.Герценом. Один за другим возникают на страницах книги молодые писатели: Н.А.Некрасов, Ф.М.Достоевский, И.С.Тургенев, И.А.Гончаров, М.Е.Салтыков-Щедрин. Особенно зримо показана в романе великая роль Белинского – идейного вдохновителя молодых писателей гоголевской школы. Действие романа развертывается в Петербурге и в Москве, в русской провинции, в Париже и Италии.
Впереди идущие - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Литературно-критические статьи Белинского не имели, казалось, прямого отношения к помещичьему дому в тверском селе Спас-Угол. Но недаром же Гоголь стал одной из важнейших тем Белинского. Гоголь и Белинский открыли молодому человеку неопровержимую истину: старый мир со всеми владетелями Спас-Углов обречен. Михаил Салтыков не был склонен, однако, довольствоваться только теоретическими, хотя и бесспорными, истинами. Ему важно было знать, куда и как направить свои силы,
Каждую пятницу молодой человек, презрев увеселения столичной жизни, еще дотемна направлялся в Коломну.
Он поднимался по лестнице, освещенной ночником, и вступал в давно знакомую ему квартиру. Главное – застать хозяина наедине, до того часа, когда собирается здесь шумное общество. Больше всего интересуют Салтыкова книжные и журнальные новинки, которые попадают к Петрашевскому с такой легкостью, будто не существует в России бдительной цензуры.
Михаил Салтыков чувствовал себя неоперившимся птенцом в мире идей, с которым он знакомился у Петрашевского. Но птенец не спешил с выводами. Ему нужно было самому проверить жизненность социалистических учений. После Сен-Симона он взялся за Фурье. В знаменитом сочинении последователя Фурье, Консидерана, учение Фурье сочеталось с последовательной и беспощадной критикой моральной нищеты собственнического мира.
Мысль о моральной нищете собственнического мира была особенно близка Михаилу Салтыкову. Он хорошо знал это по родному дому. Однако многое смущало в новых учениях его практический ум. Неясны и фантастичны картины будущего, беспочвенны надежды на разум и совесть тех, кто владеет богатством.
– Хорошо, если бы можно было по французским брошюрам переделать нашу русскую жизнь, – говорил Салтыков. – Но с идеализмом и фантазиями, даже святыми, далеко не уедешь. У нас надобно с деревни, с мужиков начинать, их поднять против помещиков. Не так ли, Михаил Васильевич?
Разговор переходил на неотложные нужды русской жизни. Они беседовали часами, пока не услышат голоса в передней.
Гости собирались один за другим. Сюда бежали люди от безысходной тоски и одиночества, от карточной игры и пошлых сплетен.
«Пятницы» проходили шумно, без всякого порядка. «О чем говорили? – старается вспомнить участник сходки. – Обо всем». Сломлена печать молчания, лежавшая на устах. Гость, побывавший на «пятнице», смотришь, ведет в следующий раз приятеля. Впрочем, не очень людно было на этих вечерах.
Михаил Васильевич Петрашевский принимал меры, чтобы направить сходки к желанной цели.
На одной из первых «пятниц» доклад об учреждении книжного склада с библиотекой и типографией сделал Александр Пантелеймонович Баласогло, сослуживец Петрашевского по министерству иностранных дел. С детства пробудилась в нем страсть к наукам, к изучению восточных языков, к путешествиям. А на долю ему досталась военная муштра.
Долгие годы трудов и лишений привели Александра Пантелеймоновича к осознанию бесспорной истины: в невообразимо страдающей России все идет вверх дном.
Как же было не сойтись архивариусу министерства иностранных дел Баласогло с переводчиком того же министерства Петрашевским!
– Сегодня, господа, мы послушаем Александра Пантелеймоновича, – говорил Петрашевский, когда собрались обычные посетители «пятниц». – Вы оцените всю важность проекта об издании и распространении полезных книг.
Баласогло взглянул на свои записи.
– Общедоступность человеческих мыслей для каждого грамотного – есть истина неоспоримая. Обнародовать труд ученого, писателя, казалось бы, простое дело, но сколько невежественных и алчных торговцев стоит на этом пути!
Баласогло предлагал учредить общество, которое заведет свою типографию и литографию. Доклад был принят с сочувствием. Но что могли сделать незначительные чиновники и начинающие литераторы, хотя бы из числа образованных людей?
Александр Баласогло был полон надежд.
– Разве в России нет людей? – спрашивал он. – А Ломоносов? А Пушкин? А прасол Кольцов? Сравните Гоголя с всеевропейским гением Сю! А музыка Глинки? А живописец Брюллов?
Докладчик закончил горячим призывом:
– Пора увидеть нам первенцев юного поколения России. Они всюду, они рождаются сотнями, они растут не по дням, а по часам. Пора выходить России из долгой умственной дремоты, настала пора учить учась…
– Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь, – дополняет докладчика Петрашевский. – Не будем же бояться начать наше образование с азбуки. А азбука нового мира – социализм.
Беседы, происходившие у Петрашевского, стали получать определенное направление. Едва ли не самым юным из посетителей «пятниц» был Владимир Алексеевич Милютин, сын петербургского фабриканта средней руки. Любознательный молодой человек задался вопросом: что несут фабрики рабочим? Но он начал свои исследования не с России, где еще только зарождался рабочий класс, а с Англии и Франции.
– Под внешним блеском и богатством Западной Европы, – говорил Милютин, – кроется язва нищеты и страданий. Эта нищета и страдания постоянно тяготеют над рабочим классом. У капитализма нет средств для самоизлечения.
– Значит, вы вступаете в ряд сен-симонистов или фурьеристов? – спрашивали Милютина.
– Нимало, – отвечал он. – Их учения должны быть освобождены от мистического и мечтательного характера. Это утопии, а человечеству нужна наука, построенная на законах, которые управляют жизнью общества.
К речам Милютина с особенным интересом прислушивался Михаил Салтыков. Часто они уходили вместе от Петрашевского и, бродя по петербургским улицам, продолжали задушевный разговор.
– К какой же деятельности готовите вы себя, Владимир Алексеевич?
– К ученой, – отвечал Милютин. – Нет более почетной задачи для экономической науки, как открыть человечеству обетованную землю благосостояния и счастья. Не подумайте, однако, что я хочу затвориться от жизни. Наука и жизнь неотделимы. Предвижу для себя и поприще журнальное. У нас еще не уделяют внимания тем вопросам, которыми заняты лучшие умы на Западе… А вы, Михаил Евграфович, куда себя определяете?
– Право, не знаю, что вам сказать… В следующую пятницу свидимся?
– Непременно, – отвечал Милютин. – Я так свыкся с этими сходками, что даже не представляю, как бы стал без них жить.
Салтыков шел один по пустынным улицам. После шумных разговоров у Петрашевского казалось, что город спит непробудным сном. Черным-черны окна. Чего же ждут люди от завтрашнего дня?
Мысли чиновника-аккуратиста, который завтра одним из первых придет в канцелярию, были смутны. Одно, кажется, становится для него более или менее ясным: вряд ли будет закончена когда-нибудь поэма «Кориолан». У русской литературы есть куда более важные задачи.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: