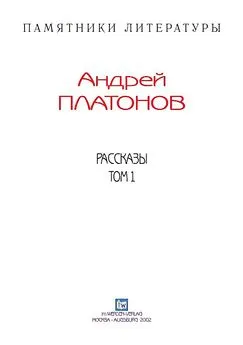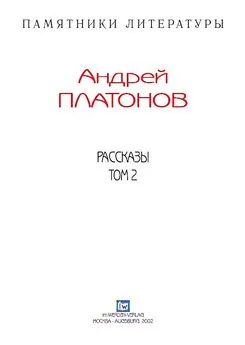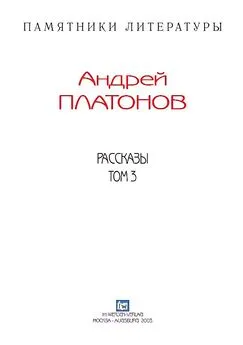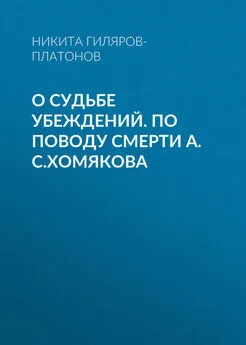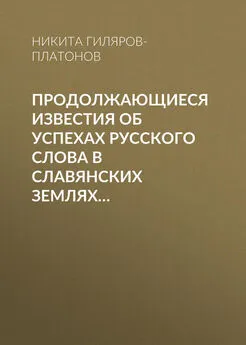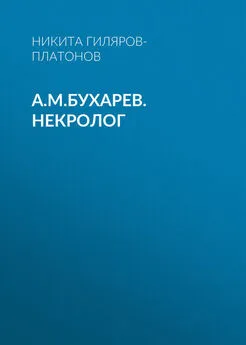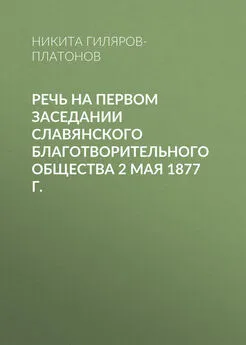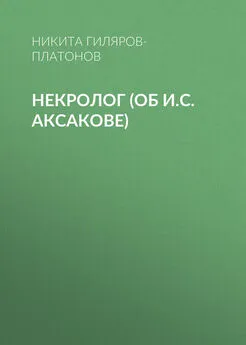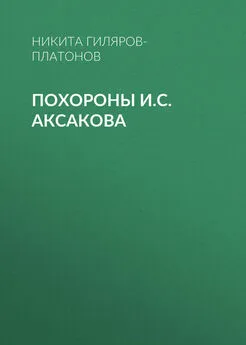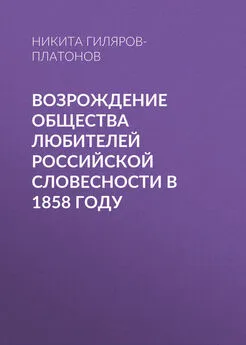Никита Гиляров-Платонов - Из пережитого. Том 2
- Название:Из пережитого. Том 2
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Никита Гиляров-Платонов - Из пережитого. Том 2 краткое содержание
Ники́та Петро́вич Гиля́ров-Плато́нов (23 мая 1824, Коломна — 13 октября 1887, Санкт-Петербург) — русский публицист, общественный деятель, богослов, философ, литературный критик, мемуарист, преподаватель (бакалавр) МДА (1848–1855). Примыкал к славянофилам.
Из пережитого. Том 2 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Брал ли я «Часы благоговения»? Кажется, нет, и если брал у кого-нибудь на посмотрение в течение четверти часа, то читать, наверное, более двух-трех страниц не читал. Еще не кончился тот период, когда рассуждения и чувствования в книгах вообще мною пропускались.
Почему избрал я французский язык, а не немецкий? Это помню. 1) Потому что присоветовал брат, сам учившийся хотя по-немецки, но недовольный этим. Незнание французского языка особенно давало ему чувствовать свою невыгоду в то время, когда он жил у Киреевских, где семейство и все знакомое общество преимущественно объяснялись по-французски. 2) Я уже начинал учиться самоучкой французскому, переписал собственноручно правила произношения, составленные знакомым брата И.И. Горлицыным, и заучил наизусть исключения из правил. 3) Мне претила немецкая печать: какие-то каракули, «тараканьи ножки», как я их тогда называл. Каждая буква казалась насекомым и возбуждала омерзение, которое усилилось тем более впоследствии, когда товарищи показали мне письменное начертание букв. Искусственность начертания, удаление от ясной простоты латинского меня возмущали. И не предполагал я, что будет чрез шесть лет со мною! Положим, с азбукой немецкою я до сих пор не примирился, но никак не мог я ожидать, чтобы полюбил впоследствии литературу немецкую и восчувствовал, наоборот, брезгливость ко французской.
По отношению к описываемому периоду жизни вообще я нахожу себя в положении археолога, который по сохранившимся обломкам и отрывкам пытается угадать утратившиеся части и сравнительным путем определяет хронологическую данную, в летописях умолчанную. Когда я, например, в гроте Александровского сада встретил француза-путешественника, заинтересовавшегося книжкой, бывшей у меня в руках, и записавшего ее заглавие? В каком году это было, 1839, 1840 или 1841? Начинаю соображать время года, час дня и по этим и другим признакам определяю первоначально, когда этого не могло быть. Отсюда уже, по соображению других обстоятельств, прихожу к достоверному заключению, что происшествие случилось в августе 1841 года. Таким-то образом восстановляю и всю историю шести лет, но восстановляю притом не самое пребывание в семинарии, а обстоятельства внешние, современные семинарии, и по ним уже семинарию. Оттого это, полагаю я, что семинария во внутреннем моем росте мало участвовала; он был плодом внутренней работы. Разве я учил уроки? Никогда. Разве я слушал профессоров? Я более над ними смеялся; а начиная со Среднего отделения (Философии), только и знал, что смеялся, смеялся внутренно и критиковал их в товарищеских беседах, подцеплял ошибки, уличал невежество (не в глаза, конечно). Когда прохождение курса оказывалось только внешним прикосновением к нему, он и не мог оставить глубокого следа: пренебрежение сказалось забвением.
Но свежо помню обстоятельство первых дней Риторического курса, озаглавленное выше словом «испытание». Чрез неделю ли после поступления, раньше ли, позже ли это случилось, профессор словесности Семен Николаевич Орлов явился с книгой (как после оказалось — Овидия) и вызвал сидевшего первым на первой скамье, первенца из «старых» (помню его фамилию: Страхов). Раскрыл книгу, подал Страхову, указал место. За дальностью профессорского стола осталось мне неизвестным содержание их беседы. Отпустил Страхова; вызывает первенца из учеников Петровского училища, к нам поступивших; книга опять подается, опять указывается место, опять неизвестные переговоры. По уходе Сперанского (из Петровского) вызывается первенец Андроньевский, затем Перервинский. Наконец дошла до меня очередь. Овидий, вижу. Указывается место; перевожу.
— Да у вас это переводили? — спрашивает профессор подозрительно.
— Нет.
— Почему же ты это знаешь? Что такое Di?
— Di — сокращенное Dii, — отвечаю я ему, догадываясь теперь, что, должно быть, мои предшественники не выразумели этой формы. «Не ахти же они какие латинисты», — подумал я.
Раскрыл профессор другую страницу; снова заставил перевести. Снова я перевел безошибочно.
— А какой это размер?
Я хотя в просодии и не был силен, однако ответил опять без ошибки и был отпущен на место.
День прошел или два затем, не помню опять. Занимались латинским языком; переводили книжку «Selectae historiae» [3] «Избранные истории» (лат.)
. Переводит упомянутый Страхов. Страницу перевел. Выслушав перевод, обращается к переводившему профессор:
— А о чем это переводили? Скажи наизусть; повтори наизусть место, которое ты перевел.
Страхов затруднился, замялся.
— Гиляров!
Я встаю.
— Можешь наизусть повторить переведенное сейчас?
Я повторил, может быть, и не буквально, и даже вернее всего, что не буквально, потому что профессор бы так не поразился. Я ответил, должно быть, свободно, с переменой некоторых выражений на другие, но с сохранением стиля и без пропусков.
Должно быть, однако, все-таки усомнился профессор. Сидел я далеко. Может быть, думал он, подсказывали или искоса я заглядывал в книгу. Вызывает меня к столу, книгу в руки. Читаю и перевожу.
— Дальше. Читаю и перевожу.
— Дальше. Иду дальше.
— Закрой книгу. Закрываю.
— Скажи наизусть, что переводил. Повторяю безукоризненно.
Развертывается книга в другом месте. Снова требование перевода, и на этот раз страницы три или четыре уже. Я предугадываю, что должно последовать, и тем внимательнее слежу за переводимым.
Книга у меня взята.
— Скажи наизусть; повтори.
Повторяю столь же безошибочно, как и прежде. Профессор возвышает голос и, обращаясь ко всему классу, произносит, указывая головой на меня:
— Уважайте его.
Предоставляю читателю судить о впечатлении, произведенном на меня этим громогласным воззванием, этим неожиданным и, вероятно, даже небывалым в этих стенах превознесением ученика. Я не слышал земли под собою, когда в своем мухояровом сюртуке возвращался на место, отпущенный профессором. Невыразимое смущение чувствовал я, видя поднятые на меня всеми глаза при восклицании наставника.
Еще день прошел, или два, или три, не помню. Дошла речь в риторике до периодов. Все периоды были для меня лапоть простой после прошлогодних упражнений. Даны профессором объяснения, более или менее обстоятельные, указаны примеры, выучены другие примеры по учебнику, и задано было первое сочинение — период простой на тему «Благочестие полезно». Растолковано.
Период, да еще простой! Как-то даже стыдно руки марать такою безделицей. Передаю брату. Советуемся: что бы написать? Не период же простой. Я решил и брат одобрил написать «Разговор о пользе благочестия». Написал без труда; показал брату; брат поправил кое-где (более повычеркнул казавшееся ему лишним). Переписываю и подаю наутро, не уверенный еще, однако, что одобрительно посмотрят на мою вольность. Велено период, а я пишу разговор! Успокоивало только памятное воззвание: «Уважайте». Снизойдут, по крайней мере не будет выговора; а в то же время покажу, что могу кое-что и большее, нежели период.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: