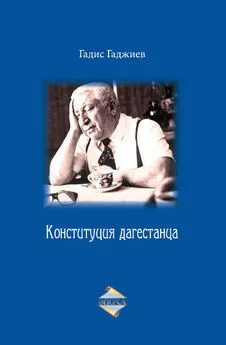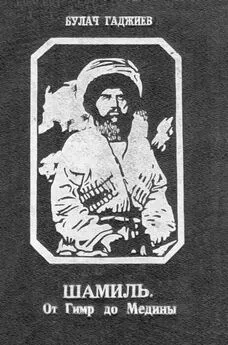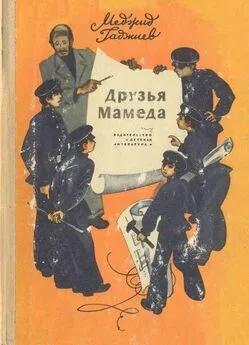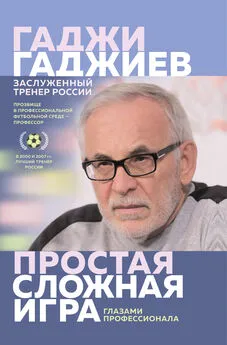Гадис Гаджиев - Конституция дагестанца
- Название:Конституция дагестанца
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Эпоха»637878c4-7706-11e4-93e4-002590591dd6
- Год:2013
- Город:Махачкала
- ISBN:978-5-98390-129-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Гадис Гаджиев - Конституция дагестанца краткое содержание
В книге представлены воспоминания о выдающемся поэте современности Расуле Гамзатовиче Гамзатове. Некоторые детали его биографии станут откровением даже для тех, кто хорошо знал великого Расула.
Конституция дагестанца - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Результатом этого обновления России стало появление русского дворянства – людей с высочайшим кодексом чести и достоинства.
Но мало кто знает, что Пушкин создал свою знаменитую метафору тогда, когда он писал поэму «Медный всадник» под впечатлением события, произошедшего в 1723 году в Дагестане, в Дербенте. В ходе Персидского похода Петр Первый был в Дербенте. Жил он в древней крепости Нарын-кала, в комнате, из которой не было видно Каспийское море. Было лето, на Каспии разыгрался шторм, постоянно дул сильный ветер. Для дальнейшего движения на юг войскам нужен был провиант, который должен был быть доставлен кораблями из Астрахани. Погода мешала осуществлению плана. Энергичный Петр Великий ежечасно с подзорной трубой в руке выскакивал из комнаты, выходил на галерею и высматривал, не появляется ли эскадра на горизонте. Видимо, это ему надоело, и тогда он собственноручно молотом прорубил окно в своей комнате, чтобы видеть море! Хороший пример жизненной энергии, необходимой для достижения высоких целей!
Доподлинно известно, что в период работы над «Медным всадником» Пушкин читал записи о персидском походе Петра Первого. Реально прорубленное окно в крепости Нарын-кала, самой древней в России, превратилось в чудесную метафору обновляющейся России.
А вот что писал Расул Гамзатович в «Моем Дагестане»:
«Печальный поэт Махмуд сказал о народах Дагестана, что они похожи на горные ручьи, которые все время стремятся слиться в один поток, но не могут слиться, и текут каждый сам по себе. А еще он сказал, что народы Дагестана чем-то напоминают ему цветы в узком ущелье, которые склоняются друг к другу, но не могут обняться.
Батырай сказал: «Как бедняк бросает свой ветхий тулуп в темный угол, так и Дагестан скомкан и брошен в ущелье гор».
С чем же сравню тебя, мой Дагестан? Какой образ найду, чтобы выразить свои мысли о твоей судьбе, о твоей истории? Может быть, потом я найду лучшие и достойнейшие слова, но сегодня я говорю:
«Маленькое окно, открытое на великий океан мира!»».
Сейчас дагестанцам тоже необходимо прорубить свое окно в большой мир. Мир не бывает односторонним, это не только Восток с его великолепными традициями, ценностями семьи, общины и государства, но и Запад с его ценностями свободы, уважения достоинства отдельного человека. Невежественность – это убеждение человека, живущего в пещере, что его жилище – это самое лучшее из всех возможных! Об этом надо постоянно напоминать молодежи Дагестана. Постоянно наращивать мускулы культуры гораздо важнее, чем наращивать мускулы в спортивном зале, хотя противопоставлять их тоже не стоит. Все знают известное высказывание Расула Гамзатовича о том, что не Ермолов кровью и саблей покорил Дагестан, а Пушкин и Лермонтов, русские, европейская культура пленили дагестанцев.
Рамазан Абдулатипов писал о том, что некоторые ученые и публицисты пытаются убедить всех, что главный герой Кавказской войны был генерал Ермолов. Он не отрицает, что это был жестокий, умелый полководец. Иначе он не повел бы себя как завоеватель, не уступающий порой своей жестокостью турецким султанам и иранским шахам. И этим он довел народы Кавказа до отчаяния и до войны. А Кавказ – это край дипломатии, а не войны. А вот другой российский главнокомандующий на Кавказе – Михаил Сергеевич Воронцов – был искусным политиком и искусным дипломатом. В чем разница между Воронцовым и Еромоловым?
Политика, проводимая М. С. Воронцовым на Кавказе, была политикой поиска мира, замирения горцев. Военные действия, как свидетельствуют его биографы, имели для него второстепенное значение. Он строил дороги, мосты. В Геджухе сохранились подземные воронцовские винные подвалы.
Через год после смерти Расула Гамзатовича его дочь Салихат опубликовала завещание отца. Это не юридический документ – великий поэт не мог написать завещание в том смысле, который этому слову придают юристы, у которых жизнь великого Гёте может уместиться в описании скупых юридических фактов: наследство Гёте состояло бы из его свидетельства о рождении и смерти, из документа о его приеме в адвокатуру, из свидетельства о браке и свидетельства о рождении его сына, из записи в поземельной регистрационной книге о его доме на имя жены и о дачном домике на Штерне, из договоров с издательствами на его произведения и из его назначения на должность тайного советника. Поэт писал свое завещание не своим детям, не своим родственникам, а всем дагестанцам. Это завещание не имело окончательной формы, это были отрывки на разных листах бумаги, привезенных после его смерти из больницы, где он начал писать после шумного и трудного для Расула Гамзатова празднования его 80-летия в киноконцертном зале «Россия», которого уже нет (он разрушен вместе с гостиницей «Россия»). Текст был написан на аварском языке. В записках главной является мысль о том, что оставлено наследство, и оно является достоянием каждого, кто обратится к книгам Расула: «Мое завещание – в книгах, которые я написал».
Он был настоящий поэт с огромной творческой энергией, которую он не утратил до самых последних дней жизни. Его мысли, творческие замыслы постоянно обгоняли возможность их осуществления. Его творческая лаборатория не закрывалась на выходные дни, душа его постоянно рождала новые образы, чудесные метафоры под воздействием встреч, бесед, впечатлений. Расул писал об этом:
Я, как малохольный, хожу, фольклорист,
По нашему бедному краю,
И каждое редкое слово, как лист,
В гербарий души подшиваю.
Конечно, это привилегия людей гениальных, у которых их мозг, душа длиннее их рук. Сам Расул с мягким юмором пишет в завещании, что был не очень собранным и потому многое не смог довести до конца: «Что-то из написанного давно я не мог позже обнаружить, словно путал шайтан. Много, видимо, потерял окончательно, как тот дурачок, что, возвращаясь домой с базара, растерял по дороге яблоки. Самое дорогое для меня из утерянного – рукопись моей третьей книги «Мой Дагестан». Сам я не смог ее найти, как ни старался» (Неизвестный Расул Гамзатов. – Махачкала, 2009. – С. 105). В конце этих прощальных строк, написанных cause mortis – «по причине предстоящей смерти», как пояснили римские юристы, поразительная строчка: «Поэт вправе скрывать что угодно, но от поэта нельзя утаивать ничего!».
В этих словах есть глубокий потаенный смысл. Расул Гамзатов очень ценил свой юмор, свои шутки и понимал, что сказанное им будет запоминаться и обязательно передаваться по эстафете от одного рассказчика другому. Для всех, кто знал поэта, это была потребность поделиться с другими радостью общения с великим дагестанцем. Это и есть третья часть повести «Мой Дагестан» – самая запомнившаяся, не опубликованная, но отправленная в народ в виде преданий, шуток, коротких рассказов из жизни самого знаменитого кавказца XX века. Неслучайно эту часть наследия люди вспоминают, к сожалению, чаще, чем его стихи и прозу. Этот феномен надо понять! Как будто Расул предвидел, что с появлением компьютеров, интернета люди реже станут доставать книги с книжных полок.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: