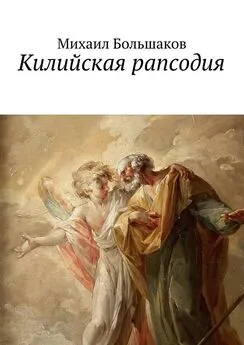Михаил Киссель - Философская эволюция Ж.-П. Сартра
- Название:Философская эволюция Ж.-П. Сартра
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Лениздат
- Год:1976
- Город:Ленинград
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Киссель - Философская эволюция Ж.-П. Сартра краткое содержание
В монографии рассматриваются основные этапы творческого пути Ж.-П. Сартра, философа, писателя, публициста, литературного критика. В настоящее время Сартр стал одним из главных идеологов «новых левых» — экстремистского течения, противопоставляющего себя мировому коммунистическому движению и смыкающегося с маоизмом. «Неомарксизм» Сартра, служащий одним из главных теоретических источников современного философского ревизионизма, делает особенно актуальной критику его воззрений, проникнутых духом анархизма и нигилистического отрицания классического культурного наследия.
Книга рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся проблемами идеологической борьбы.
Философская эволюция Ж.-П. Сартра - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Материальное бытие, по Сартру, — результат отчуждения, а вовсе не природная данность, как то следует из материалистического взгляда на мир. А ведь исторический материализм основывается на материалистическом понимании природы, которое углубляется и одновременно достраивается «доверху» материалистическим пониманием истории. Это детальнейшим образом разъяснил В. И. Ленин в своем гениальном труде «Материализм и эмпириокритицизм». При этом надо учитывать, что во времена Ленина не были известны такие основополагающие произведения классиков, как «Немецкая идеология» и «Диалектика природы», в которых прямо утверждается первичность с генетической точки зрения природного мира по сравнению с социальным.
Учение об общественном развитии в марксизме развертывается на естественнонаучном фундаменте дарвинистского эволюционизма. Хорошо известно, что Маркс, ознакомившись с только что появившимся трудом Дарвина «Происхождение видов путем естественного отбора, или сохранение благоприятствуемых пород в борьбе за жизнь», отмечал его значение как естественнонаучного обоснования диалектического материализма. В общетеоретической форме эту идею выдвинул В. И. Ленин в «Философских тетрадях», сформулировав тезис о том, что необходимо связать принцип развития с принципом материального единства мира. Эта связь наглядно выражает монолитность диалектико-материалистического миросозерцания и органическую связь марксистско-ленинской философии с естествознанием.
Но, может быть, Сартр в ортодоксально-марксистском духе трактует хотя бы категорию социального бытия? Во всяком случае, социальное бытие есть продукт деятельности человека, результат ее объективации. В этих пределах наш автор, конечно, прав, хотя и не говорит ничего нового после Гегеля и Маркса. Дальше, однако, опять начинаются существенные расхождения. Материальность общественного бытия Сартр трактует только как его «обесчеловеченность», как слепую силу природной необходимости. И здесь полностью сохраняется односторонне идеалистическое понимание материи как косной «силы тяжести» (Гегель), простого инерциального компонента реальности, вся ценность которого в том, что в боренье с этой косностью мужает «дух» и человек обретает свободу. У Сартра гегельянское, а не марксистское понятие материи.
Материалистический монизм, связывающий в единое целое объяснение природы и объяснение истории, исходит из представления о самодвижении материи, о внутренне присущей ей активности, которая и объясняет развитие в природном и социальном мире. «Косная материя» никогда не смогла бы породить жизнь на земле и претерпеть биологическую эволюцию, создавшую предпосылки для общественного развития. Вот почему «социальная материя», по Марксу, не сводится к одной только слепой стихийной необходимости, действующей подобно недоступным человеческому контролю силам природы, как это получается у Сартра. Одно из фундаментальных положений исторического материализма гласит, что общественное развитие есть естественноисторический процесс.
Сартр, в сущности, трактует исторический материализм дуалистически: материальное для него равнозначно естественному, историческое же (царство человеческой свободы, «трансценденции», «отрицания» и т. д.) оказывается по ту сторону естественного. «Историческое» и «материальное», по Сартру, — антиподы, ибо в материальном историческое отчуждается, превращается в грубую объективность и угасает, хотя и в такой форме сохраняет активность, но только в грубом обличий физического давления и внешнего принуждения. Это грубое принуждение Сартр и называет «движущей силой истории», как мы имели возможность убедиться несколькими страницами ранее, когда приводили соответствующее его высказывание.
Конечно, как разъясняли классики марксизма, до тех пор пока общество не напало на след своего собственного развития и не выработало исторического самосознания (а это оказалось возможным только в результате создания теории научного коммунизма), общественные законы действовали слепо, насильственно, разрушительно, «за спиной людей». Но Сартр в угоду своей схеме, хранящей следы гегельянского дуализма материи и духа, затушевывает другую сторону марксистского взгляда, согласно которому люди всегда сами делают свою историю, они обладают исторической инициативой, а не просто действуют под давлением внешней необходимости. И эта историческая инициатива — неотъемлемый элемент царства необходимости, которая пробивает себе дорогу как результирующая множества индивидуальных воль. Вот почему, согласно Марксу, историческое не противостоит материальному, а включает его в себя, и наряду с отчужденной предметностью, давящей человека своей слепой и грубой бездуховностью, есть еще созидающая предметная деятельность, историческое творчество. Источник заблуждений Сартра в этом пункте заключается в давнишнем его тяготении к дуализму, вполне обозначившемуся еще в «Бытии и Ничто», где «для-себя-бытие» было вытолкнуто за пределы «бытия-в-себе» и существовало как свободная деятельность «на расстоянии» от материальной предметности. Только теперь эта дуалистическая концепция трасформировалась в определенную интерпретацию марксистской концепции исторического процесса.
Невозможно согласиться и с интерпретацией труда, материального производства в «Критике диалектического разума»: поскольку это материальная деятельность, то она уже с самого начала является источником порабощения человека и яблоком раздора между людьми. Материальное производство как таковое с необходимостью представляет собой арену социального антагонизма, сферу насилия, скрытого и явного. «Насилие не просто внешний акт, хотя может быть, без сомнения, и им, оно есть также интериоризированная нужда, или то, благодаря чему каждый видит в каждом другого (символ чуждости, появляющийся у Сартра еще в „Бытии и Ничто“. — М. К.) и принцип Зла» [98] Ibid., р. 225.
.
Здесь почти без изменения воспроизводится давнишний тезис онтологического трактата об изначальной конфликтности отношений между людьми. Теперь виной этому оказывается не страх изолированного «я» за свою свободу в присутствии другого лица, предъявляющего те же претензии, а просто антропологическая природа человеческого существа, вечно испытывающего «недостаток» и потому вынужденного конкурировать с другими за обладание необходимыми благами. Получается, что конкурентность не есть свойство каких-то специфических социальных условий (антагонистической социальной структуры, как то считают марксисты), но атрибут человеческого существования. Такое объяснение ничем не хуже (и не лучше) гоббсовского «честолюбия», побуждающего людей непрерывно вступать в драку между собой, доколе строгие законы не положат конец безобразиям «естественного состояния».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: