Александр Филиппов-Чехов - Александр фон Гумбольдт. Вестник Европы
- Название:Александр фон Гумбольдт. Вестник Европы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Libra Press
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9906440-0-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Филиппов-Чехов - Александр фон Гумбольдт. Вестник Европы краткое содержание
Александр фон Гумбольдт – знаменитый немецкий ученый, сделавший важнейшие открытия в геологии, географии, горном деле, метеорологии, астрономии, физике, химии, физиологии, зоологии, сравнительной анатомии, археологии, этнографии, истории. Современники называли его Аристотелем XIX века. Совершив в 1799-1804 гг. масштабную экспедицию в Новый Свет, он заслужил звания «истинного первооткрывателя Америки». В 1829 г. по приглашению Николая I Гумбольдт отправился в экспедицию в Россию, в течение нескольких месяцев исследуя нашу страну от Санкт-Петербурга до Алтая.
Александр фон Гумбольдт. Вестник Европы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Из сказанного видно, что теория Гумбольдта через полвека после ее появления, когда многие считали ее совершенно похороненной, подтверждается новейшими исследованиями. Если великому ученому и не удалось, вследствие недостатка в конце XVIII столетия вспомогательных средств, которыми располагает современная наука благодаря прежним открытиям, доказать свои положения, то во всяком случае нельзя не удивляться провидению его, опередившему на полвека современников.
Обратимся к новому полю исследований Гумбольдта. Каждый, даже самый невнимательный, глаз видит различие между телами природы органической и неорганической; но не так легко сказать, в чем именно состоит это различие. Мы можем сказать, что разбитый на кусочки камень отличается от прежнего целого только тем, что кусочки значительно меньше целого. Камень увеличивается наслоением отдельных частиц извне. В растениях и животных мы замечаем совершенно противное, как при раздроблении их, так и при развитии. Последнее совершается изнутри: частицы, бывшие прежде в совершенно ином месте организма, после известного ряда перемещений, отлагаются наконец в каком-нибудь месте его, очень отдаленном от того, в котором они находились сначала. Кроме того, отдельные органы сообщают воспринятым ими веществам совершенно отличный от первоначального вид и свойства, чем те, которые они прежде имели, и в этом уже измененном состоянии и доставляют эти вещества другим органам. Эти наглядные наблюдения верны, но они все-таки не решают главного вопроса, а только обходят его, не решая задачи: какая именно причина вызывает все эти явления?
Ученые, философы и естествоиспытатели, пытались давно решить его и решали каждый раз сообразно степени развития современной науки. Естественно, что, пока науки естественные находились в младенчестве, и решения вопроса этого были крайне неудовлетворительны, не выдаваясь над уровнем догадок и смутных предположений. Только в то время, когда в конце XVIII в. химия сделала громадные успехи, можно было надеяться при посредстве ее приступить к серьезному обсуждению указанного нами выше вопроса, хотя окончательное его решение и теперь еще не предвидится.
В половине истекшего столетия большая часть ученых объясняла процессы органического мира механическими теориями. Так, Гейлс утверждал, что все движение питательных соков в растениях совершается под господством двух законов: испарения через листья и закона волосности. С развитием химии ученые пытались применить открытые ею законы и силы к объяснению совершающихся в растениях и животных процессов. Гумбольдт принадлежит тоже к числу исследователей, и притом самых выдающихся, которые искали помощи и ответа у химической науки.
В «Афоризмах»[1794] своих он делит тела природы на две группы: к первой он относит те, которые повинуются законам химического сродства, а ко второй – те, которые, не будучи им подчинены, соединены между собой иным образом. Так как Гумбольдт полагал, что различие это обусловливается не элементами и их естественными свойствами, а их распределением, то он и называет веществами неоживленными, недеятельными, как бы апатичными, те из них, которых составные части смешаны по законам химического сродства; напротив, к оживленным, или органическим телам он относил такие, которые, несмотря на постоянное стремление изменить свой вид, не изменяют его вследствие присутствия какой-то внутренней силы, сдерживающей их в этой первоначальной форме. Эту-то внутреннюю силу, разрушающую узы химического сродства и мешающую свободному сочетанию веществ, Гумбольдт называет «жизненной силой».
Пример уяснит мысль его. Возьмем известку и подвергнем ее действию углекислоты; от соединения их мы получим углекислую известь, которая не изменяется. Но если мы на это новое вещество нальем азотной кислоты, то углекислота улетучивается, а азотнокислая известь остается. Если мы опять на эту последнюю нальем серной кислоты, то она, вытеснив азотную, займет ее место, образовав опять новое вещество – гипс. Пример этот доказывает, что серная кислота отличается более сильным сродством к известке, чем азотнокислая, а последняя, в свою очередь, бóльшим, чем углекислота. Мы, конечно, не знаем причины, почему сродство это больше в одном случае и почему оно меньше в другом, но из опыта мы узнаем это явление, которое постоянно повторяется, сколько бы раз мы ни предпринимали эти опыты. Совершенно другое замечаем мы, когда имеем дело с органическим веществом. Мускул, например, остается мускулом до тех пор, пока животное остается живым, но как только оно умерло – он не остается неизменным, как углекислая известь или гипс, но подвергается разложению, он гниет, и только продукты, при этом образующиеся, оказываются постоянными, следуя законам сродства, указанным выше в телах неодушевленных. Что мускул в течение жизни оставался мускулом – этому и причиной жизненная сила, и что здесь химические законы не господствуют и не преобладают – это мы видим из судьбы мускула после смерти. Таким образом, жизненная сила, по мнению Гумбольдта, есть деятельность, зарождающаяся вместе с явлением органического тела на свет, и исчезающая с его смертью; она стоит выше сил химических, которым следуют только вещества минеральные.
Гумбольдт оставался недолго приверженцем особенной жизненной силы: плодом его занятий раздраженными мышечными и нервными волокнами была теория (изложенная во втором томе этих исследований, появившихся в 1797 и 1799 гг.), совершенно отличная от прежней. Изучив влияние раздражающих средств и убедившись, что оно выражается каждый раз более или менее сильным физическим или химическим изменением раздраженного органа, Гумбольдт заключает из этого, что вся жизнь организма не что иное, как непрерывная цепь раздражений, и что соединения, вызываемые химическими законами потому только не могут проявиться, что они постоянно встречают противодействие, которое с прекращением жизни исчезает. Но чем обусловливается, спрашивает он, это изменение явлений, это исчезновение органических тканей, это наступающее гниение? Гумбольдт объясняет их причинами троякого рода. Произвольные движения мышц и иные физиологические явления показывают, что на вещество действует нечто вне-чувственное, представление, имеющее возможность даже изменять относительное положение элементов. Поэтому возможно, что это нечто вне-чувственное (сила представления) и удерживает в равновесии основные силы вещества, и иначе определяет во время жизни химические сродства веществ, чем после смерти. Возможно однако, продолжает Гумбольдт, что причину этого внутреннего равновесия следует искать в самом веществе и притом в неизвестном элементе, составляющем исключительную принадлежность растительных и животных особей, изменяющем законы сродства. Точно так же возможно, по мнению Гумбольдта, что причина эта лежит в том отношении действующих органов между собой, вследствие которого каждый из них постоянно передает другому новые вещества, вследствие чего более ветхие не могут достигнуть той степени пресыщения, до которой они, при полном внутреннем покое мертвой природы, беспрепятственно достигают. При полной неизвестности внутреннего состояния органического вещества, Гумбольдту казалось лучше умолчать о первых двух предположениях, в особенности, когда последнее представляет вероятность объяснить физические явления не только при посредстве физических законов, но не прибегая к неизвестному веществу. Поэтому Гумбольдт отказывается теперь от своего прежнего взгляда на жизненную силу как на неизвестную причину, тем более что взгляд этот, по его собственному сознанию, совершенно опровергнут трудами Рейля, Фейта, Акермана [30]и Рёшлауба [31].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
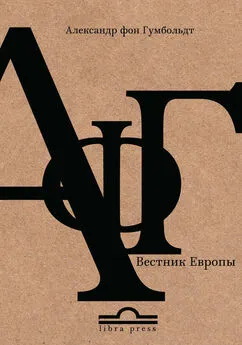

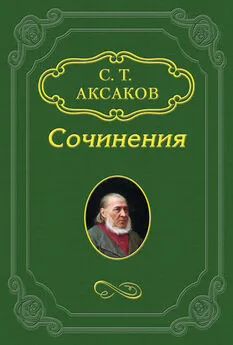
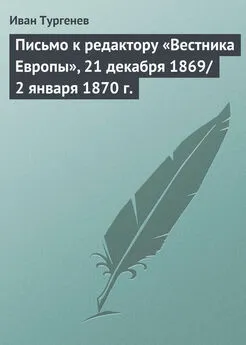
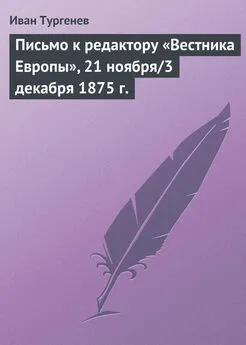
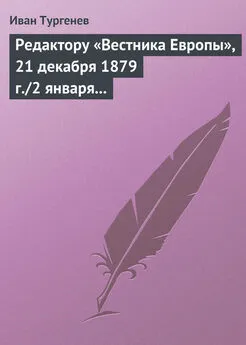
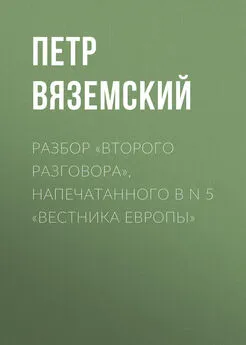
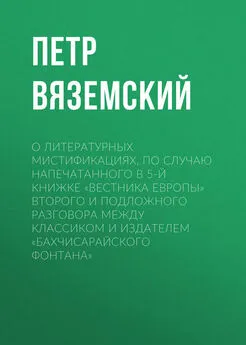
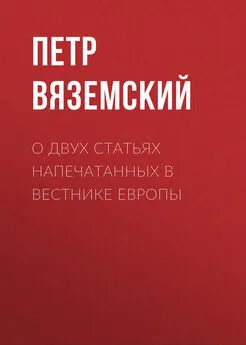
![Андреа Вульф - Открытие природы [Путешествия Александра фон Гумбольдта]](/books/1072978/andrea-vulf-otkrytie-prirody-puteshestviya-aleksan.webp)