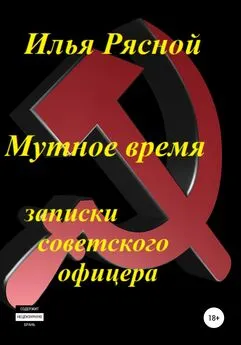Михаил Рабинович - Записки советского интеллектуала
- Название:Записки советского интеллектуала
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение; Международный исследовательский центр российского и восточноевропейского еврейства
- Год:2005
- ISBN:5-86793-054-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Рабинович - Записки советского интеллектуала краткое содержание
Михаил Григорьевич Рабинович (1916–2000) — известный археолог и этнограф. Публикуемые воспоминания, в которых неразрывно переплетаются лирика и юмор, отражают различные этапы жизни страны и его жизни: учеба в горно-химическом техникуме, работа мастером на руднике в годы индустриализации, учеба на историческом факультете МГУ, военная Москва, руководство раскопками в Зарядье и в Кремле, кампания борьбы с «космополитизмом», работа в Музее истории и реконструкции Москвы и в Институте этнографии. Перед читателем проходят родственники и друзья автора, известные писатели и ученые (В. Каверин, Е. Дорош, А. В. Арциховский, М. Н. Тихомиров, С. Д. Сказкин, М. Я. Гефтер и др.).
Записки советского интеллектуала - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В 1945 году начались уже археологические раскопки. До тех пор работа археологов была связана преимущественно с фиксацией разрушений исторических памятников вражескими войсками. Когда Арциховский был направлен для этого в Смоленск, он взял себе в помощь Монгайта и меня. Поездка эта заслуживает особого рассказа. Сейчас Артемий Владимирович начал раскопки в подмосковном селе Беседы. Предполагалось, что я буду ему помогать, но институтские дела не позволяли отлучаться из Москвы больше, чем на день, да и помощь моя не требовалась: как всегда, у Артемия был надежный костяк аспирантов. Я бывал скорее как гость, вместе с М. Н. Тихомировым и М. М. Дьяконовым. Но все же раскопал пару курганов. Первые после долгого перерыва раскопки, экспедиционный быт, такой с юности волнующий, — все было и так, и не так, как в прежние годы.
Салют в честь победы над Японией мы наблюдали уже из Бесед. Зрелище Москвы, озаренной светом прожекторов, яркими огнями ракет, предстало передо мной впервые со стороны. И, кажется, у всех вырвался вздох облегчения: вот теперь война совсем кончилась!
— Археологией заниматься не придется! — сказал мне Толстов больше двух лет тому назад. Он и теперь не склонен был особенно поощрять моих археологических занятий вне института.
А я тосковал по раскопкам в русском городе.
Мозжинка — Москва, 1981 — июль 1982 г .
Древний Смоленск
Немцы захватили Смоленск осенью 1941 года и держали почти два года. В августе 1943-го наши войска отбили его вновь. И через несколько дней после этого А. В. Арциховский сказал нам с Монгайтом:
— Ну что ж, едем в Смоленст. Фитсировать разрушения памятнитов тультуры. Вот мандат Томиссии на мое имя, а вы назначаетесь моими помощнитами. Возможные объетты работы — тремль Федора Тоня, собор семнадцатодо вета, набережная цертовь тат будто двенадцатодо. Это вместе с архитетторами: на нас археолодичестая часть. Днездовстий модильнит и дородища — целиком на нас. Ну, и что-то может оттрыться дополнительно. Вот.
Еще день — и мы с Артемием и Шурой едем в Смоленск. К нашему удивлению, со всеми удобствами, почти как в мирное время — в купированном вагоне. И в купе ни одного лишнего человека — каждый на своем месте.
— А как же иначе — ведь к фронту едем, — говорит проводник.
Утром увидели возвышающиеся на крутом берегу Днепра древние башни, за ними — силуэты зданий. Кажется, к счастью, тут много уцелело.
Увы, это было совсем не так. Вид Смоленского кремля издали был обманчив — там стояли даже не коробки домов, а одни полуразбитые стены. Не было не только крыш, дверей и окон. Не было ни полов, ни потолков. Тут не работа жестокой взрывной волны или даже снарядов. Тут методически злая воля жадного и жестокого врага. Междуэтажные перекрытия тщательно срезаны: балки перепилены автогеном. Чтобы не оставить после себя ни призрака жилья.
Улицы в центре Смоленска, кажется, никогда не славились ни шириной, ни прямизной. Но сейчас по улице почти невозможно пройти: повсюду завалы из кирпича, балок, железных листов, сорванных с крыш, всякого мусора. Настоящий разгул разрушения. Куда ни бросишь взгляд, он упирается в развалины. Их разбирают военнопленные в какой-то непривычной для нашего взгляда зеленоватой, чрезвычайно мятой и рваной форме немецкой армии. Места, где они работают, обнесены колючей проволокой. Ведут себя пленные беспокойно, то и дело бросают на улицу отнюдь не смиренные взгляды. Видно, еще недавно в плену. Позднее в Новгороде мне случилось видеть совсем других пленных, уже привыкших к своей жизни в плену и работавших без строгого конвоя.
Есть здесь и жители Смоленска, вернувшиеся с нашими войсками. Они ютятся в башнях старинной крепости, в развалинах, где гуляет ветер (благо время еще летнее). Мы не сразу поняли, что башни стали жилыми, и, только испытав неудобство, естественное для человека, вошедшего без стука в жилую комнату, стали стучаться, если было во что стучать, или как-то иначе просить разрешения, прежде чем войти. Не знаю, остался ли в городе хоть один гражданский, как говорят, дом, сколько-нибудь пригодный для жилья.
И чувствуется стремление как-то наладить городской быт. Заботятся, например, чтобы была годная для питья вода: это проблема к тому же и предупреждения эпидемий. На улицах есть «торговые точки», где можно попить. Видимо, очень остра проблема простейшей посуды: воду продают стаканчиками, изобретательно сделанными из консервных баночек, так, что отогнутая и согнутая крышка образует своеобразную ручку кружки.
На большинстве жестянок из-под консервов — марка «Оскар Майер». Это не немецкая, а американская фирма — это мы знаем по Москве. А жестянок (конечно, пустых) здесь целые горы на улицах; употребляются они широко, ведь посуды нет никакой — ни столовой, ни хозяйственной. Да и в разных других случаях используется эта жесть.
На улице встречаешь в основном мужчин. Но есть уже и женщины (не военные) и даже дети. Вот бежит девочка лет двенадцати с огромной по ее росту консервной жестянкой (литров в пять), как выяснилось — за керосином. Нас поразила уже не банка, а новенькое платьице девочки — из материи, украшенной изображениями американских военных самолетов — Дугласов, Харрикейнов (надписи тут же) и других — явно «американский подарок». Что они там, в Штатах, носят во время войны одежду с такой патриотической символикой или материя специально предназначена для союзников?
Среди развалин домов возвышаются церкви. Менее других поврежден костел. А при церквах огромные кладбища. И видно, что многое множество новых могил, совсем свежих. Так, кладбище при костеле явно выросло за эти последние недели, кажется, в несколько раз. На свежих могильных холмиках, вытянувшихся длинными прямыми рядами, надгробья — маленькие деревянные обелиски. На обелисках — лаконичные надписи: воинское звание, имя, отчество, фамилия, реже — и год рождения. Тут не было времени для выражения чувств — и так всякому понятно, как велики, как тяжелы наши утраты. Буквы надписей вырезаны все из тех же консервных банок, на некоторых литерах можно прочесть ту же надпись: «Оскар Майер» — обрывок или даже целое слово…
Но вот какой-то толчок, почти физический: майор юстиции Борис Григорьевич Бройдо… Боря Бройдо — муж моей двоюродной сестры Нины… В дни моего детства это был красивый и добрый парень. Носил еще иногда тельняшку и любил вспоминать о «действительной» службе, которую недавно отбыл на флоте. К старшим был заботлив — я постоянно видел его хлопоты, помощь бабушке Фридерике Наумовне и тете Лизе. Очень любил детей и охотно возился с нами, мальчишками. Притом бывал резковат, но как-то по-доброму.
Видимо, в самом начале тридцатых годов они развелись, и я не видел Борю долго. Лишь в 1939-м встретил его в метро. С молодой женой. Я страшно обрадовался ему, и он тоже, видимо, не был огорчен встречей, хоть не сразу узнал меня в бороде. Военная форма (на этот раз не морская) очень ему шла. Все торопились, и мы обменялись всего несколькими фразами; он все же рассказал, что жена учится в консерватории, и заметил, что мне борода ни к чему… и вот я вглядываюсь в затертую фотографию-«удостоверку», прибитую тут же под стеклышком (а на рамочке — опять «Оскар Майер»). Видно, любили его в части, где он служил, — позаботились и о карточке. И всего-то он прожил меньше сорока лет. Такой красивый, добрый и храбрый.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
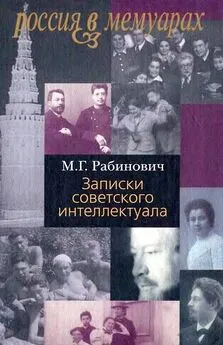




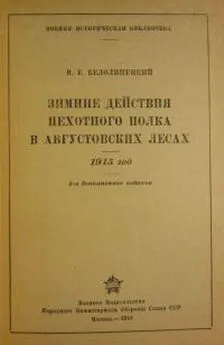
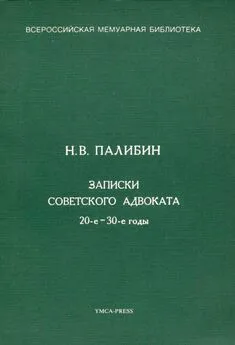
![Михаил Соловьев - Боги молчат. Записки советского военного корреспондента [сборник]](/books/1143668/mihail-solovev-bogi-molchat-zapiski-sovetskogo-vo.webp)