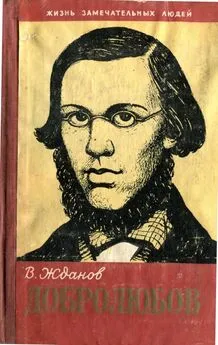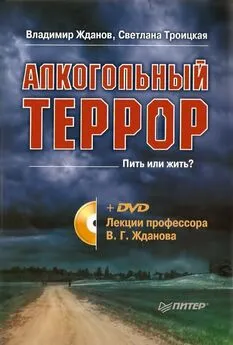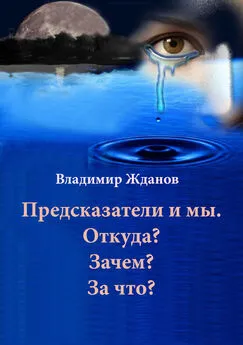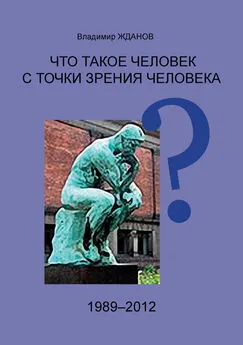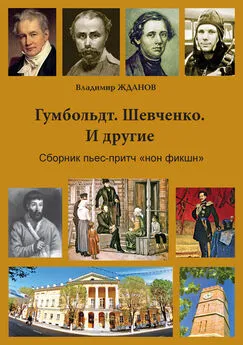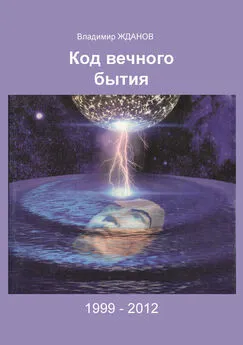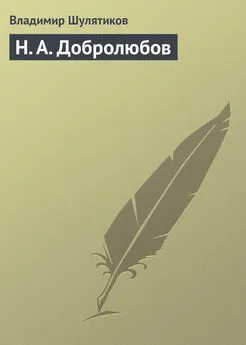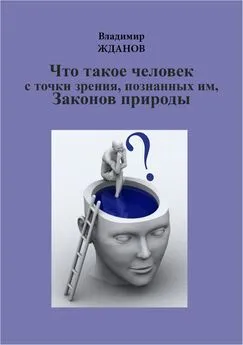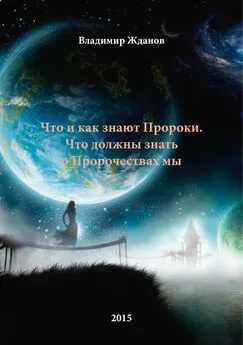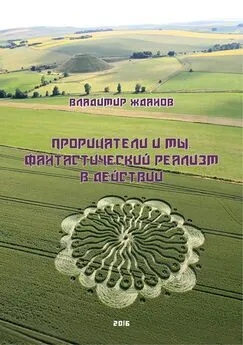Владимир Жданов - Добролюбов
- Название:Добролюбов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:1961
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Жданов - Добролюбов краткое содержание
Предлагаемая вниманию читателей книга рассказывает о жизни и кипучей деятельности замечательного русского революционера-демократа, выдающегося литературного критика и философа-материалиста, друга и соратника Н. Г. Чернышевского.
В книге показан жизненный путь Добролюбова — детство, проведенное в Нижнем Новгороде, годы учения в Петербургском педагогическом институте, когда складывались революционные убеждения будущего критика, время работы в «Современнике» (1856–1861), — наиболее яркий период его деятельности.
Автор книги В. В. Жданов (род. в 1911 г.) — советский литературовед, написавший ряд работ о русской классической литературе (о Гоголе, Лермонтове, поэтах-петрашевцах и др.)
Добролюбов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В истории внутренней борьбы, раскалывавшей на два лагеря редакцию «Современника», Добролюбову пришлось сыграть особенно видную роль. Он был самой ненавистной фигурой для либералов типа Боткина, Дружинина, Анненкова. Его презрение к либеральному фразерству не имело пределов. Его непримиримость и «принципиальность не знали никаких компромиссов и уступок. Убийственная ирония и спокойная уверенность в своей правоте делали его неуязвимым для противников. Многие, в том числе даже Чернышевский, удивлялись тому, с какой прямотой и резкостью Добролюбов высказывал свои мнения в лицо собеседникам, кто бы они ни были.
«Мне казалось полезным для литературы, — вспоминает Чернышевский, — чтобы писатели, способные более или менее сочувствовать хоть чему-нибудь честному, старались не иметь личных раздоров между собой. Добролюбов был и в этом иного мнения. Ему казалось, что плохие союзники — не союзники».
Таким же прямым и нелицеприятным был он и в своих литературных выступлениях; только давление цензуры заставляло его иной раз смягчать оценки или находить для их выражения обходные пути и иносказания.
Знаменательно, что именно столкновение вокруг памяти Белинского явилось одним из первых внешних проявлений внутренней борьбы в редакции «Современника». Отношение к наследству великого критика служило наиболее ярким показателем розни между демократией и либеральным дворянством в 60-е годы. Мнимые поклонники Белинского пытались прикрыть его именем свое неверие в революцию, в общественную силу искусства. Подлинные продолжатели его дела — Чернышевский и Добролюбов — свято чтили революционные заветы Белинского. Они могли бы повторить проникновенные некрасовские слова: «Учитель, перед именем твоим позволь смиренно преклонить колени…» И нет ничего удивительного в том, что Добролюбов с такой стремительностью выступил против неискренних друзей Белинского, фальшью громких слов порочивших благородный облик критика, — гражданина и борца.
Стихи, разосланные участникам поминального обеда, были не единственным выступлением Добролюбова в защиту памяти своего великого предшественника. Меньше чем за месяц до этого эпизода вышла майская книжка «Современника», где молодой критик со всей, силой гнева обрушился на врагов Белинского, осмелившихся возвести на него низкую клевету.
В качестве такого клеветника явился некий Ф. Вигель, когда-то написавший письмо к Гоголю с похвалами его реакционной книге «Выбранные места из переписки с друзьями». Письмо давно умершего Вигеля, опубликованное в печати в 1858 году, содержало выпад против тех, кто восхищался «Ревизором» и «Мертвыми душами» и порицал «Переписку». Намекая на Белинского, автор письма утверждал, что люди, нападавшие на «Переписку», не любят своей родины, а в литературе поддерживают только писателей-русофобов, которые якобы отрицают все русское. Именно эта «замечательная по своей странной бесцеремонности выходка» и взорвала Добролюбова. Сразу разгадав, в кого метил Вигель, он писал (в рецензии на книгу Н. В. Сушкова «Московский университетский благородный пансион»):
«Мы не в силах выразить наше негодование на эту клевету, на это бессильное старание покрыть всю послегоголевскую литературу нашу, в которой только что и начинает проявляться истинно-народная русская мысль, — позором… Да падет позорное слово это на память того, кто произнес его! Он, безвестный, бездарный, ничего не сделавший остряк…он осмелился выступить со словом черной клеветы на Белинского, на этого человека, который сгорал любовью к родине, который понимал и ценил ее больше, чем тысячи Вигелей со всеми их друзьями и единомышленниками…»
Так воспламенялся Добролюбов, когда ничтожества вроде Вигеля осмеливались прикасаться к Белинскому.
Выход первого собрания сочинений критика (1859) Добролюбов встретил восторженным приветствием. Маленькая заметка, написанная им по этому поводу и появившаяся в «Современнике», содержала много больших мыслей и полновесных слов. «Да, в Белинском наши лучшие идеалы, — писал он здесь, — в Белинском же история нашего общественного развития… Идеи гениального критика и самое имя его — были всегда святы для нас, и мы считаем себя счастливыми, когда можем говорить о нем».
Добролюбов по праву считал себя идейным наследником Белинского, продолжателем его работы в русской литературе, работы во имя народа, во имя его освобождения. Он писал, что влияние великого критика «ясно чувствуется на всем, что только появляется у нас прекрасного и благородного…». Статьи самого Добролюбова и были в первую очередь тем «прекрасным и благородным», на чем ясно чувствовалось влияние Белинского. Недаром Некрасов, связанный узами дружбы с обоими критиками, находил, что в Добролюбове во многом повторился Белинский.
С первых шагов своей литературной деятельности Добролюбов живо интересовался прошлым русской литературы, Связывал с ним ее настоящее, всегда ощущая связь и преемственность литературных явлений, всегда стремясь обосновать свою напряженную, страстную мысль бойца обращением к истории, к фактам прошлого.
В своих суждениях о крупнейших явлениях русской литературы Добролюбов опирался на наследие Белинского, продолжая начатую им работу в новых условиях. Политическая обстановка в России к концу 50-х — началу 60-х годов серьезно отличалась от обстановки предыдущего десятилетия. «Соотношение классовых сил резко изменилось. Историческое развитие страны привело к укреплению лагеря революционной демократии, к четкому оформлению его политической программы, программы крестьянской революции. С другой стороны, группа либерального дворянства определилась как сила, открыто враждебная революции. В стране необычайно обострились классовые отношения.
Естественно, что не могли не стать по-новому вопросы литературу, в частности вопросы ее исторической оценки. В условиях ожесточенной классовой борьбы Добролюбов должен был с гораздо большей политической остротой оценить русскую литературу XVIII века. Крайняя резкость характеристик иногда даже приводила Добролюбова к односторонним выводам.
История русской литературы до Пушкина представлялась Добролюбову в виде медленного процесса, когда одни писатели сменялись другими, почти одинаково далекими от подлинной народности. С Пушкина начался новый период литературного развития. Но даже, Гоголь в конечном счете не во всем удовлетворяет критика, хотя он и был страстным поборником «гоголевского» направления. Все надежды его устремлены в будущее. Он убежден, что придет время, и русский народ выдвинет такого поэта, появление которого невозможно в условиях самодержавно-полицейского режима. Пафосом борьбы за новую, революционную литературу, за подлинно народного поэта, трибуна масс была проникнута вся деятельность Добролюбова-критика.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: