Петр Козлов - Тибет и далай-лама. Мертвый город Хара-Хото
- Название:Тибет и далай-лама. Мертвый город Хара-Хото
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «5 редакция»fca24822-af13-11e1-aac2-5924aae99221
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-699-59497-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Петр Козлов - Тибет и далай-лама. Мертвый город Хара-Хото краткое содержание
Есть судьбы, отправной точкой которых оказывается случайная встреча, а главной пружиной – удача. Такова судьба знаменитого русского исследователя Петра Кузьмича Козлова (1863—1935).
Великий путешественник, знаменитый Н. М. Пржевальский, однажды возник перед замечтавшимся о дальних странах молодым человеком и заговорил с ним. С этих пор судьба не имевшего никаких перспектив Петра Козлова, обреченного, казалось, всю жизнь прозябать на скучной однообразной работе в провинциальной конторе, переменилась как по волшебству.
Пржевальский, почувствовавший в юноше родственную душу, стал ему наставником, почти что отцом, взял в свою экспедицию, научил всему, что знал и умел. Четвертая Центральноазиатская экспедиция Пржевальского 1883—1886 гг., к сожалению, оказалась последним предприятием этого замечательно исследователя. Но для Петра Кузьмича она стала только первой, а за ней последовали еще пять, причем три последних возглавил сам Козлов.
И каждая из них – большая удача. Поражающие воображения труды, удивительные открытия, знакомство с Далай-ламой XIII, заслуженное признание, слава на Родине и за рубежом. И, конечно, сенсации! Открытый П. К. Козловым в 1907—1909 гг. мертвый тангутский город Хара-Хото (X—XIII вв.) подарил миру теперь знаменитую богатейшую коллекцию из тысяч книг и рукописей на тангутском, китайском, тибетском и уйгурском языках, сотни скульптур и древних буддийских святынь, а раскопки древних могильных курганов к северу от Урги в 1924—1925 гг. открыли гуннские погребения эпохи Хань III—I вв. до н. э., полные прекрасно сохранившихся тканей, ковров, седел, монет, украшений, керамики.
Только в одном удача отвернулась от Петра Кузьмича – ему так и не удалось побывать в Лхасе. Тибет – предмет юношеских мечтаний и зрелых надежд – открыл ему свое сердце, но не стены своей древней загадочной столицы.
Основу юбилейного издания, приуроченного к 150-летию со дня рождения выдающегося российского путешественника, составили два главных произведения П. К. Козлова: «Тибет и Далай-лама» и «Монголия и Амдо и мертвый город Хара-Хото». В приложениях публикуется история последней (Монголо-Тибетской) экспедиции П. К. Козлова (1923—1926 гг.), краткое описание первой самостоятельной (Тибетской) экспедиции (1899—1901 гг.), подготовленное исследователем для журнала «Русская старина», а также малоизвестная автобиография путешественника.
В подготовке этого юбилейного издания деятельное участие принимали сотрудники мемориального музея-квартиры П. К. Козлова в Санкт-Петербурге – А. И. Андреев, О. В. Альбедиль, Т. Ю. Гнатюк. Благодаря их усилиям издание обогатилось тщательно подготовленными комментариями и уникальным иллюстративным и фотографическим материалом.
Электронная публикация включает все тексты бумажной книги П. К. Козлова и базовый иллюстративный материал. Но для истинных ценителей эксклюзивных изданий мы предлагаем подарочную классическую книгу. Сотни фотографий, большинство из которых выполнены самим исследователем, карты маршрутов, рисунки непосредственных участников экспедиций и впервые публикуемые цветные снимки из коллекции музея-квартиры П. К. Козлова составили иллюстративный ряд этого юбилейного издания. Эта книга, как и вся серия «Великие путешествия», напечатана на прекрасной офсетной бумаге и элегантно оформлена. Издания серии будут украшением любой, даже самой изысканной библиотеки, станут прекрасным подарком как юным читателям, так и взыскательным библиофилам.
Тибет и далай-лама. Мертвый город Хара-Хото - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Джапын-басэн-дукан – очень нарядное новое здание, окаймленное садом, где в летнее время ламы устраивают религиозные беседы.
Долма-лхакан – храм тибетской архитектуры, построен лишь недавно и стоит рядом с большим белым субурганом значительной древности. Этому субургану приписывают особое мистическое значение, и молящиеся, в особенности люди, совершившие много злых деяний, с необыкновенным усердием по нескольку раз обходят его кругом, творя молитвы и земные поклоны.
Наконец храмы: Бурхан, известный печатанием книг религиозного содержания; Боин-зэт-лхакан, гордящийся своей научной индийской и тибетской библиотекой, и Чойбзэн-тобкан, представляющий музей старинного оружия (огнестрельного и холодного) и чучел представителей местной фауны.
При личных покоях настоятелей Жамьян-шадбы устроено нечто вроде казначейства, где хранится все монастырское золото, серебро и драгоценные камни. Там же разложены разные реликвии – одежды и чашки Далай-ламы с первого до седьмого перерождения; плеть богдо-хана, золотая книга, которую ламы выносят к народу при торжественных богослужениях, и даже окаменелость в виде рыбы, найденная в горах и тоже почитаемая буддистами священной за свое непонятное и таинственное в представлении номадов, происхождение.
Как центр культурно-просветительной деятельности края Лавран имеет четыре школы – гьудская, дуйнкорская, кьэдорская и манбинская – среднего образования и одну – цаннидскую – высшего, своего рода духовную академию. Слушателями являются представители всех упомянутых выше народностей, а лекторами или профессорами – преимущественно тибетцы или местные уроженцы.
Молодые учащиеся ламы помещаются в маленьких одиночных кельях, ютящихся рядом с монастырем по скату гор наподобие отшельнических ритод Восточного Тибета. В настоящее время тибетская наука в Лавране не развивается, а, скорее, падает. Как прежде, так и теперь все окончившие курс местной академии направляются на несколько лет в Лхасу, чтобы там пополнить пробел своих знаний и получить высшую ученую степень.
В общем Лавран производит впечатление очень богатого монастыря, в котором знаток и любитель буддизма найдет исключительные по красоте и редкости бурханы. По-видимому, покровители и почитатели Лаврана не только воинственны и горды, но также тщеславны и благочестивы, так как, бывая в Лхасе и других молитвенных центрах Тибета, они отовсюду привозят дары, служащие к украшению родной обители. В самом монастыре, при доме монгольского чиновника цин-вана, также есть мастерские, где отливаются металлические бурханы, но местная работа, конечно, значительно ниже тибетской, и в особенности индийской по своему качеству.
Многочисленные ламы занимаются, кроме того, иконописью, и летом можно наблюдать художников, усердно работающих в уединенных уголках прямо на лоне природы.
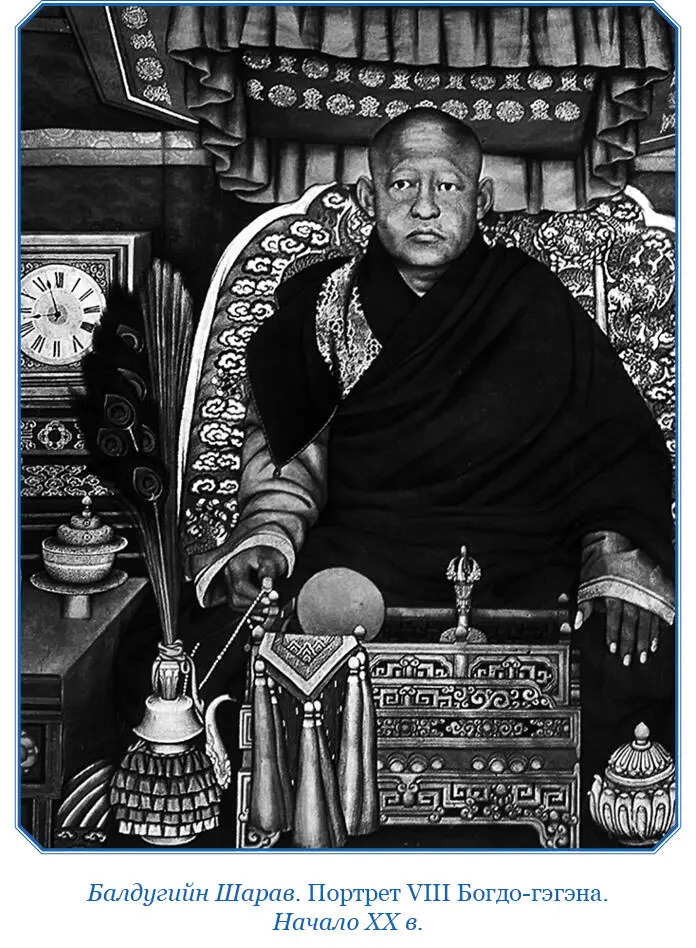
Заслуженная известность монастыря Лаврана. – Посещение Лаврана Г. Н. Потаниным и другими исследователями. – Ученый паломник Барадийн. – Праздник в монастыре Лавране: 14 февраля, 15 апреля, или весенний праздник поста и молитвы, осенний – 25 октября, торжественное молебствие – лычжа и другие. – Животная жизнь окрестных лесов. – Погода. – Дальнейший путь.
Пользуясь большим обаянием среди буддистов Южной Монголии и Северо-восточного Тибета, монастырь Лавран всегда манил к себе и европейских исследователей. Начиная с 1885 г., когда его впервые посетил Г. Н. Потанин [307], здесь побывали и французские, и немецкие, и английские путешественники. Наиболее ценное и подробное описание амдоской святыни нам дал, однако, не европеец, а бурят – Б. Б. Барадийн, закончивший высшее образование в Петербурге. Выйдя из университета и получив духовную и материальную поддержку Академии наук и Географического общества, этот молодой талантливый буддист отправился в Лавран, где пробыл целый год (1906), в деталях изучая быт и склад жизни монастыря и подвизающейся в нем братии [308].
Как во всех буддийских монастырях, в Лавране в году бывает несколько торжественных праздников, объединяющих очень большое количество молящихся. Нифудун-чю цунг-чю, день смерти первого Жамьян-шадбы, чествуется четырнадцатого февраля. День пятнадцатого апреля известен под именем весеннего праздника поста и молитвы, соответственно которому бывает такой же осенний праздник двадцать пятого октября. Седьмого июля – в память двух истекших веков с основания Лаврана [309]– также совершается торжественное молебствие, лычжа; и, наконец, пятый праздник Молэы или «Народный» заканчивает собою цикл годовых торжеств.
Ко времени празднования Нифудун-чю цунг-чю в Лавран собралось несколько десятков тысяч паломников. В храмах шли деятельные приготовления.
Накануне знаменательного дня четырнадцатого февраля члены экспедиции были разбужены на рассвете криком: «Вставайте скорее, посмотрите, как изгоняется из монастыря бес в образе человека!». Торопливо поднявшись с постелей, мы вышли на улицу и застали там довольно оригинальную картину: одетый и раскрашенный наподобие клоуна молодой тангут держал в правой руке большую волосяную кисть и, помахивая ею из стороны в сторону, выпрашивал у окружающей публики милостыню. Правая половина лица этого так называемого беса или по-монгольски «цзолика» [310]была выкрашена в белый цвет, левая же – в черный.
Соответственно этому и меховой халат его, вывернутый шерстью кверху, имел двоякую раскраску. Рядом с цзоликом шел человек, несший на спине мешок с многочисленными чохами, сыпавшимися со всех сторон, как из рога изобилия. Приблизившись к окраине монастыря, кто-то из присутствовавших выстрелил несколько раз в воздух, и тотчас загудели голоса многотысячной толпы, сливаясь в какой-то дикий вопль, перекатывавшийся от одного края долины к другому. В то же самое время над монастырем среди облака пыли блеснуло яркое пламя, пылавшее вокруг исполинского чучела цзолика. Прошло несколько минут, соломенный бес сгорел. Странный раскрашенный лама продвигался вперед; поднявшись по горной дороге, он исчез за ближайшим увалом, и тотчас стихло кругом.
Так, по верованию буддистов, в лице одного человека, принявшего на себя символически грехи всей обители, изгоняется из священного места все нечистое, злое, искусительное. Играющий роль беса лама раскрашивается в черный и белый цвета для того, чтобы всякий мог наглядно представить себе, как под влиянием неисчислимых прегрешений одна сторона или часть человека (темная) умирает, другая же на некоторое время еще остается жить. Цзолик обязуется покинуть монастырь навсегда и получает в награду за такое самопожертвование ямб серебра весом в пятьдесят лан; обыкновенно еще столько же изгнанник собирает добровольными пожертвованиями [311].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:










