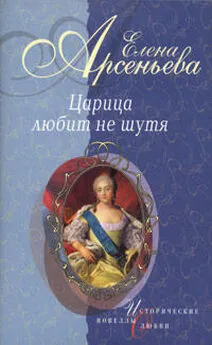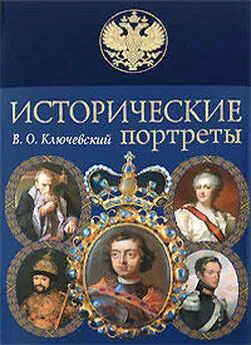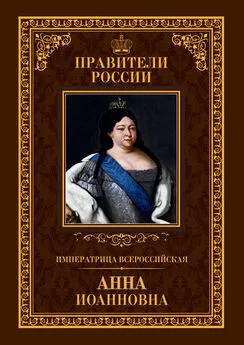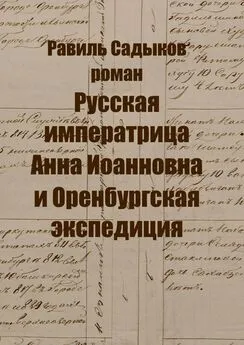Игорь Курукин - Анна Иоанновна
- Название:Анна Иоанновна
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:2014
- Город:М.
- ISBN:978-5-235-03752-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Игорь Курукин - Анна Иоанновна краткое содержание
В судьбе Анны Иоанновны было немало крутых поворотов: природную русскую царевну, племянницу Петра I, по его воле выдали замуж за иноземного принца, полжизни провела она бедной вдовствующей герцогиней в европейском захолустье, стала российской императрицей по приглашению вельмож, пытавшихся сделать её номинальной фигурой на троне, но вскоре сумела восстановить самодержавие. Анна не была великим полководцем, прозорливым законодателем или смелым реформатором, но по мере сил способствовала укреплению величия созданной Петром империи, раздвинула её границы и сформировала надёжную и работоспособную структуру управления. При необразованной государыне был основан кадетский корпус, открыто балетное училище и началось создание русского литературного языка.
Книга доктора исторических наук Игоря Курукина, написанная на основе документов, рассказывает о правлении единственной русской императрицы, по иронии судьбы традиционно называемом эпохой иностранного засилья.
Анна Иоанновна - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
«Подарок» в десять тысяч рублей порадовал в 1737 году генерал-майора Н.Ю. Трубецкого, вроде бы ничем не прославившегося на войне; но через пару лет именно ему Анна доверила пост генерал-прокурора. Такую же сумму получил в 1733 году незнатный и нечиновный статский советник Андрей Боев, но он-то и командовал Соляной конторой, из которой поступали деньги на личные расходы императрицы, — как не поощрить «кормильца»! Придворное счастье по-разному улыбалось камер-юнкерам Алексею Татищеву и Алексею Пушкину. Первый получил 3300 рублей на двор в столице, а затем ещё три тысячи на строительство у себя в имении церкви; второй в 1733 году был рад и 500 рублям, а в 1736-м ему выделили — не в пожалование, а в долг на три года — восемь тысяч рублей. Обер-егермейстер Волынский в 1736 году также получил в долг пять тысяч рублей на пять лет. Вряд ли вечно жаловавшийся на бедность Артемий Петрович смог бы долг вернуть, но и не пришлось — за год до истечения срока он угодил на эшафот.
Царские милости достались и менее привилегированным слугам. Придворный «моляр» Луи Каравак удостоился подарка в тысячу рублей за «усердные труды»; столько же досталось балетмейстеру Ланде и дантисту Жироли. Композитор Франческо Арайя получил 500 рублей, а чудаковатый знаток восточных языков Георг Кер всего 100 рублей — столько же, сколько паж Иоганн Бенкендорф или новокрещёный «арап» Василий Дмитриев, да и то, скорее всего, потому что служил переводчиком при Коллегии иностранных дел.
Миниху-младшему императрица выдала две тысячи рублей на заграничное путешествие, а его отцу — ещё более щедрое пособие при отправлении в Польшу. Другим придворным также достались деньги на лечение, «за проезд за моря» или «для удовольствия экипажу», в то время как иные из направленных к императрице челобитных оставались без рассмотрения и ответа. Практика денежных раздач заставляла придворных искать способы показать свою преданность, соперничать за милостивое внимание государыни и, конечно, всякими образами «топить» конкурента. «Подарки» привязывали их получателей к властной «хозяйке», тем более что иногда превосходили размерами их служебные оклады. Но обратной стороной этого явления была зависимость от воли монархини, которая могла обернуться взлётом-«случаем» или ссылкой с конфискацией имущества, а то и эшафотом.
Сколько больших и малых «персон» мечтали хотя бы на короткое время приблизиться к «особе её императорского величества»! Удостоенные этой чести боялись происков соперников и внезапной «отмены» милости. И те и другие пристально следили за малейшими переменами при дворе. Из сохранившихся писем зимы 1738 года, адресованных Волынскому его «секретным другом», кабинет-секретарём императрицы Эйхлером, следует, что последний читал Анне Иоанновне вслух письма Артемия Петровича, которые «весьма милостиво принимались». Он же следил за действиями представителей «противной партии» — те разглашали, что возвращения Волынского, отправившегося на очередную инспекцию конских заводов, в столице не очень-то и ждут; но секретарь точно знал: «Подлинно вас скоро сюда ожидают, как из всех дискурсов понять можно», — и советовал прибыть к дню рождения императрицы. Он же регулярно извещал «патрона» о событиях при дворе: Неплюеву велено «быть в Киеве»; фельдмаршал Миних «скоро к армеи возвратиться имеет»; Черкасский заболел и не выезжает, но уже может подписывать документы, а герцог Бирон «горлом заболел» и «непрестанно полоскание употребляет» {400} .
В те времена властные помещицы по своей воле женили крепостных. Анна любила устраивать амурные дела подданных и нередко выступала в роли свахи. «Здесь играючи женила я князя Никиту Волконского на Голициной», — сообщала она Салтыкову.
«Семён Андреевич. При сём прилагается записка, по которой вы имеете сыскать помянутую в той записке воеводскую жену Кологривую и, призвав её к себе, объявить, чтобы она отдала дочь свою за Дмитрея Симонова, которой при дворе нашем служит, понеже он человек доброй, и мы его нашею милостию не оставим; однакож объявите ей о том не с принуждением, но как возможно резонами склонять…»
«Семён Андреевич. Поговори князь Василью Гагарину, чтоб он дочь свою отдал за нашего камер-юнкера Алексея Татищева; однакож мы его к тому не приневолим, а приятно нам будет, ежели он то по изволению нашему учинит без принуждения, и пребываю в милости…»
«Семён Андреевич. Пишите вы к нам, что докладывается Шереметев, выдавать ли сестру свою за Фёдора Лопухина. Ежели между ими согласие имеется, и она за ним быть желает, то дать им позволение. И пребываю неотменна в милости» {401} .
В те времена при наличии хорошей «партии» не было принято спрашивать знатных барышень о их чувствах. Однако стоит отметить, что всемилостивая государыня интересуется «согласием» невесты.
Аннинские резиденции
Анна больше никогда не возвращалась в прежнюю московскую жизнь, новую же предстояло обустроить: скромное жилище дяди уже не подходило для обитания двора «великой императрицы». В том же году началось возведение новой резиденции, объединившей в один ансамбль несколько зданий (дома Ф.М. Апраксина, П.И. Ягужинского, С.Л. Рагузинского, Г.П. Чернышёва) и обращенной главным фасадом на Адмиралтейство. Совместная работа придворного архитектора Бартоломео Карло Растрелли и его талантливого сына Франческо Бартоломео была завершена в 1736 году: императрица получила новый четырёхэтажный Зимний дворец с двумя сотнями комнат {402} . В центре здания находился двусветный тронный зал площадью около тысячи квадратных метров. Его описание оставил живший в Петербурге в 1735–1736 годах шведский учёный Карл Рейнгольд Берк:
«Большой зал — самый просторный, какой я когда-либо видел, и богато украшен зеркалами, мраморированным гипсом, а также многочисленными позолоченными барельефами и иным декором… Плафон покрыт живописью по холсту — без сомнения, чтобы ускорить его создание, однако неизвестно, сколько он продержится. Роспись выполнена придворным художником Караваком — самовлюблённым французом, который всё критикует, и почти никто не хвалит его работу.
Сюжет на середине потолка — вступление её в[еличест]ва на престол. Религия и Добродетель представляют её России, которая, на коленях приветствуя её, вручает ей корону. Духовное сословие и царства Казань, Астрахань, Сибирь, а также многие татарские и калмыцкие народы, признающие власть России, стоят рядом, выражая свою радость. На четырёх больших живописных изображениях, расположенных вокруг этого среднего и спускающихся к карнизу, представлено много деяний, способных особенно прославить правление Анны Иоанновны, а именно: могущество империи, милосердие к преступникам, высокая щедрость и победа над врагами; сверху эти слова написаны [кроме латыни] ещё и по-русски…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: