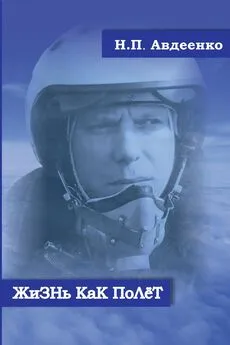Степан Микоян - Воспоминания военного летчика-испытателя
- Название:Воспоминания военного летчика-испытателя
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Центрполиграф»a8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9
- Год:2014
- Город:М.
- ISBN:978-5-227-04544-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Степан Микоян - Воспоминания военного летчика-испытателя краткое содержание
Степан Анастасович Микоян, генерал-лейтенант авиации, Герой Советского Союза, заслуженный летчик-испытатель СССР, старший сын Анастаса Ивановича Микояна, выдающегося государственного деятеля, хорошо известен в авиационных кругах нашей страны и за рубежом. Ему довелось испытывать или пилотировать все типы отечественных самолетов второй половины XX века – от легких спортивных машин до тяжелых ракетоносцев. Но самой большой привязанностью всегда оставались истребители. Он дал путевку в небо всемирно известным самолетам конструкции Микояна-Гуревича и Сухого.
Воспоминания Степана Микояна – яркий исторический очерк о советской истребительной авиации. Автор доверительно и откровенно рассказывает о буднях нелегкой и опасной работы летчиков-испытателей.
Воспоминания военного летчика-испытателя - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Известно также, что в середине июня происходил массовый отъезд семей сотрудников немецкого посольства на родину, а за день-два до 22-го стало известно, что в посольстве жгли бумаги.
В ночь на 22-е Сталину в присутствии отца и других членов Политбюро доложили о переплывшем реку Прут немецком фельдфебеле, который сообщил, что нападение произойдет утром 22 июня. Несмотря на это, Сталин отказался подписать директиву о приведении всех войск приграничных округов в полную боевую готовность, которую ему доложили нарком С.К. Тимошенко и начальник Генерального штаба Г.К. Жуков. Их поддерживали, как рассказывал отец, многие члены Политбюро. Сталин согласился подписать директиву лишь с предупреждением, что «в течение 22–23 июня возможно внезапное нападение немцев. Нападение может начаться с провокационных действий». Передача директивы, по свидетельству Г.К. Жукова, в округа была закончена в 00.30 22 июня и оказалась запоздалой [6].
Можно привести ряд обстоятельств, которые сыграли роковую роль из-за отсутствия своевременного приказа о приведении войск в готовность к отражению нападения. Достаточно сказать, что из многих частей Белорусского военного округа артиллерия была вывезена на полигоны для испытаний и для учебных стрельб. Часть офицеров находилась в летних отпусках, а другие убыли из расположения части на воскресенье. Самолеты на аэродромах стояли согласно правилам мирного времени, по линейке, крыло в крыло, представляя удобную цель для бомбометания и штурмовки (как известно, в первый день войны мы потеряли на аэродромах от бомбометаний и штурмовок немцев более восьмисот самолетов, многие из которых были самые современные в то время МиГ-3).
Только нарком военно-морского флота Н.Г. Кузнецов, вопреки указаниям, около часу ночи направил всем флотам шифровку:
«СФ, КБФ, ЧФ, ПВФ, ДВФ. Оперативная готовность № 1 немедленно. Кузнецов ».
Штабом Черноморского флота, например, шифровка была принята в 1 час 03 минуты. Первый же налет бомбардировщиков зенитчики флота встретили плотным огнем. Флоты в первый день войны практически не имели потерь [7].
Все многочисленные донесения и сведения о готовящемся нападении Германии на нашу страну, включая сообщения о точной дате и времени нападения, не были приняты Сталиным во внимание. Сталин считал, что эти данные – результат намеренно распространяемой немцами (или англичанами?) дезинформации, и требовал «не поддаваться на провокации». Он запретил принимать решительные меры по подготовке к боевым действиям и развертывать войска для обеспечения готовности к отражению нападения, «чтобы не спровоцировать войну», запретил также сбивать немецкие самолеты-разведчики, то и дело летавшие над нашей территорией.
Отношение Сталина к информации отражало присущие ему подозрительность и крайнее недоверие к людям. Он вообще считал любого способным на измену и обман. Перед самым нападением немцев он дал указание вызвать из-за рубежа наших разведчиков, поставлявших тревожные сведения, и «стереть их в лагерную пыль».
Конечно, не следует думать, что Сталин не проводил общую подготовку страны к войне, – в конце 30-х годов многое делалось в этом направлении, в том числе и по его инициативе и под его контролем, – развитие военной промышленности, разработка современных боевых средств, в первую очередь самолетов, танков и артиллерийских орудий; создание стратегических запасов. Увеличивалась численность войск. Создавались также запасы продовольствия и материальных ценностей.
(В выполнении этих решений правительства большую роль сыграл мой отец. Он следил за накоплением хлебопродуктов, сахара и жиров. К весне 1941 года созданные запасы продовольствия могли удовлетворить более чем полугодовые потребности армии. По указанию Сталина Анастас Иванович также занимался по линии внешней торговли созданием стратегических резервов сырья, которого у нас не было или было недостаточно, такого как каучук, свинец, алюминий, никель, алмазы, различные сплавы.)
Но перевооружение Красной армии на новую технику только начиналось (хотя технический задел был сделан еще при Тухачевском). На это требовалось еще, наверное, один-два года. Сталин в этот период не хотел и даже боялся войны. Он говорил, что Гитлер помнит завет Блюхера не воевать на два фронта. Он убедил себя в том, что Гитлер не нарушит договор с нами и не начнет войны, пока не покончит с Англией, и поэтому, вопреки имевшейся в изобилии информации, препятствовал действиям по обеспечению непосредственной готовности армии к нападению врага. Для руководителя государства это преступная близорукость. Некоторые высшие руководители и военачальники были обеспокоены такой политикой, но большинство верило в «мудрость Сталина». Они считали, что он что-то знает, чего не знают они. Многие даже с излишним усердием выполняли указания по «умиротворению» немцев. Одним из них был, на мой взгляд, генерал Д.Г. Павлов, расстрелянный после разгрома Западного фронта вместе с другими высшими командирами фронта по указанию Сталина в качестве «козлов отпущения».
Я помню предвоенные разговоры знакомых военных и даже статьи в газетах, касающиеся изучения в академиях вопросов стратегической обороны. В конце 30-х годов, когда уже не было Тухачевского, Уборевича, Якира и других, утверждалось, что в случае нападения на нашу страну мы сразу же перенесем войну на территорию противника и будем только наступать. В Академии Генерального штаба одергивали тех, кто говорил о необходимости разработки теории стратегической обороны. Как пишет Г.К. Жуков:
«В то время наша военно-теоретическая наука вообще не рассматривала глубоко проблемы стратегической обороны, ошибочно считая ее не столь важной». И далее: «Военная стратегия в предвоенный период строилась главным образом на утверждении, что только наступательными действиями можно разгромить агрессора и что оборона будет играть сугубо вспомогательную роль, обеспечивая наступательным группировкам достижение поставленных целей» [8].
Исходя из этой доктрины строилась система вооружения Красной армии и ее дислокация [9].
Приняв меры по организации стратегической обороны перед нападением Германии, можно было избежать разгрома многих войсковых соединений и пленения миллионов советских солдат.
Несомненно, что громадные потери нашей страны в людях, материальных ценностях и территории в 1941 году, фактически разгром, лежат на совести лично Сталина (учитывая и предвоенные репрессии против командного состава нашей армии).
В ходе войны было сделано немало ошибок, и это естественно для любого воюющего государства. Но у нас были специфические ошибки, причины которых характерны для нашей государственности с абсолютной авторитарностью диктатора. Я назову здесь две, вероятно, наиболее существенные ошибки, серьезно отразившиеся на ходе войны.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: