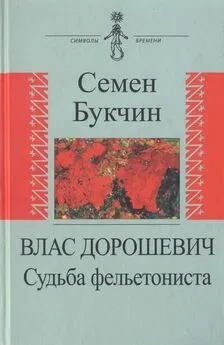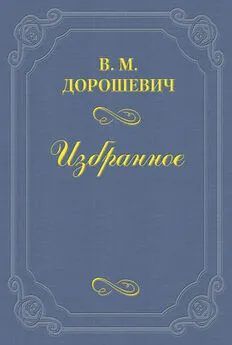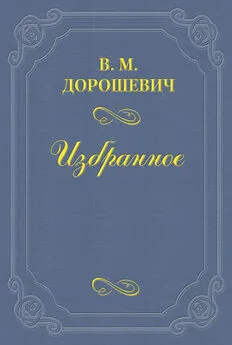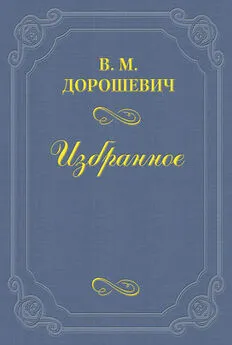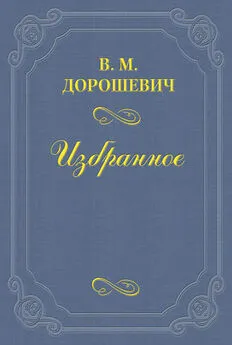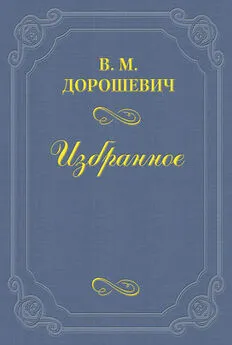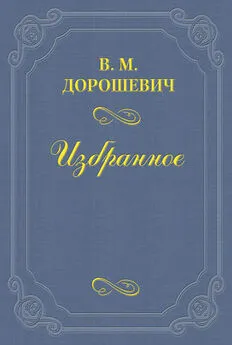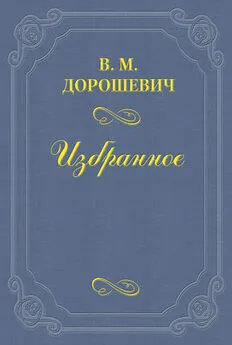Семен Букчин - Влас Дорошевич. Судьба фельетониста
- Название:Влас Дорошевич. Судьба фельетониста
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Аграф
- Год:2010
- Город:Москва
- ISBN:978-5-7784-0365-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Семен Букчин - Влас Дорошевич. Судьба фельетониста краткое содержание
Имя Власа Дорошевича (1865–1922), журналиста милостью божьей, «короля фельетонистов», — одно из самых громких в истории отечественной прессы. Его творчество привлекало всеобщее внимание, его карьера переживала бурные взлеты и шумные скандалы. Писатель, доктор филологических наук Семен Букчин занимается фигурой Дорошевича более пятидесяти лет и знает про своего героя буквально всё. На обширном документальном материале (с использованием дореволюционных газет и журналов, архивных источников) он впервые воссоздает историю жизни великого журналиста, творчество которого высоко ценили Лев Толстой, Чехов, Горький. Чувство юмора и трагическое восприятие мира, присущие Дорошевичу, его острословие и зоркость критического взгляда — всё передано Букчиным с равной убедительностью. Книга станет существенным вкладом в историю русской литературы и журналистики.
Влас Дорошевич. Судьба фельетониста - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Но все аргументы Кудрявцева напрасны. К тому же случается самое ужасное: левонастроенные участники собрания называют Петра Петровича Грингмутом, Шараповым — именами реакционных публицистов, а глупый купец Силуянов договорился до того, что поставил его речь рядом с писаниями князя Мещерского в «Гражданине». И уже после злополучной сходки выказавшему «благоразумие» Петру Петровичу высказывает свое благоволение сам губернатор. Радикалы изничтожают где только могут «бывшего либерала», правые, в том числе ненавидимые им «истинно русские люди», шлют ему свои приветствия, предлагают сотрудничество. Пришедший для «откровенного объяснения» Зеленцов обличает: «Вы хотите остаться кумирами. Чистенькими пройти среди брызг крови. И остаться дворянами в революции». Он дает Кудрявцеву «последний совет»: «Идите в толпу рабочих и подставьте вашу грудь под пули. Вы умрете нашим или вернетесь нашим». И Петр Петрович отправился на похороны убитых во время забастовки рабочих. На митинге он слышит речи, которых не ожидал: вместо проклятий буржуям звучат слова об «общественном мнении, которое проснулось, сознало свои права и мощно, властно потребует своих прав», о противодействии тем, кто «борцов за общее благо и общее счастье» смешивает «с негодяями и хулиганами». Выступления «сознательных рабочих» — это, скорее, мечта Кудрявцева о том, чего более всего жаждала душа. Впрочем, как бы там ни было, но едва не попавший под нагайки казаков, разогнавших митинг, Петр Петрович признается жене, что видел «воскресшего из мертвых… видел новый русский народ». И все-таки Кудрявцев не может примкнуть к какому-то лагерю. Он потрясен, раздавлен, растерян. Бывшему соратнику по либеральной партии он заявляет, что остается «наедине со своей совестью». И в таком состоянии вместе с семьей уезжает за границу. Знаменательны слова, которые он говорит жене, глядя на мелькающие за окном «серые, бесконечные, унылые, угрюмые и мрачные в надвигающихся сумерках, словно грозные поля:
— Хорошо, Аня, жить в той стране, где уже была революция» [1041] .
Словами этими заканчивается политическая повесть «Вихрь». Несмотря на умеренность демократических притязаний главного героя, цензура не позволила завершить начавшуюся 11 января 1906 года публикацию в «Русском слове». Спустя полгода повесть была целиком опубликована в сборнике «„Вихрь“ и другие произведения последнего времени». Совершенно бессмысленная цензурная акция явилась еще одним аргументом в пользу того, что либералу-эволюционисту нет места в обществе, где правят крайности. Впрочем, и либерализм вызывает у автора довольно ядовитую иронию. Отъезд Кудрявцева за границу — это, несомненно, капитуляция перед сложностью, трагизмом жизни. От последнего лозунга героя «Вихря» — «остаюсь наедине со своей совестью» — тянется вполне отчетливая нить к последнему (1917 г.) публицистическому циклу Дорошевича, не без вызова озаглавленному «При особом мнении». Юноша, объявивший себя в 1884 году журналистом, стоящим «вне партий», в 1905 году, уже зрелым и знаменитым писателем, оказался на политической развилке и попытался удержаться в этом положении еще десяток с небольшим лет. С этого времени в жизни Дорошевича начинается особая драматическая полоса, которую можно было бы обозначить как борьбу одиночки за свою Россию и свое человеческое, гражданское, журналистское место в ней. Но не только для себя — для всех, для блага России. Конечно, эта борьба шла и до того. Но с 1905 года она обостряется, что привело в итоге к трагическому финалу.
Весну 1906 года Дорошевич проводил в Ницце. Настоящим ударом стало известие о займе, предоставленном Францией российскому правительству, остро нуждавшемуся в средствах для обуздания революционной стихии. Это была взаимовыгодная сделка: на проходившей в испанском Альхесирасе конференции благодарность России выразилась в поддержке колониальных амбиций Франции в ее военно-стратегическом соперничестве с Германией. Дорошевич пишет фельетон «Россия и Франция (по поводу займа)», в котором признания в любви к прекрасной Марианне во фригийском колпаке перемежаются с разочарованием: «Я люблю Францию, как религиозный человек любит Палестину.
Я люблю Париж — Вифлеем, Иерусалим свободы. Здесь она родилась, здесь была распята, здесь воскресла.
Но Франция — это сцена Comédie Française, где в те дни, когда не дается трагедия, — разыгрываются фарсы палерояльского театра.
И тот, который разыгрывается сейчас, один из пошлейших.
Мы, русские, не хотели верить.
— Франция! Республиканская! Демократическая Франция!.. Дает денег на борьбу со свободой…
Франции 14 июля, Франции 4-го сентября нет.
Есть:
— Франция 1 ноября.
День уплаты русского купона» [1042] .
Обещанного продолжения этого фельетона не последовало, скорее всего по цензурным причинам. Демонстрируя лояльность по отношению к России, французская полиция стала преследовать живших в Париже русских эмигрантов, на что Дорошевич откликнулся фельетоном «Русские и французы» [1043] . Но, конечно же, самым главным, самым волнующим для него в ту пору был вопрос о том, какими путями пойдет демократическое преобразование страны, на которое самодержавие с большими оговорками, но как будто стало соглашаться. В преддверии выборов в первую Государственной Думу он в фельетоне «Перед весной» напрямую обращается к политически активным кругам общества: «Господа, вам говорит и советует — не без надежды быть услышанным! Я это знаю! — не человек какой-нибудь партии <���…> У меня есть своя партия. Ее составляют: я, моя совесть, мой здравый смысл, мои знания России <���…> моя способность, долг которой мне говорит то, что я думаю, что я чувствую, не заботясь в эти тяжелые для родины минуты ни о популярности, ни об успехе, ни о похвалах, ни о том:
— Понравится это той партии, другой? Старикам? Молодежи?»
Что же говорит «его партия»? Надо изучить «жизненные подробности земельного вопроса в каждой отдельной крестьянской общине», надо «вызвать доверие, настоящее доверие у простого народа, что участь его действительно будет улучшена „по-доброму“, без крови и насилий, — единственный способ для этого чрез его же представителей». Ведь очевидно, что «шум, поднявшийся в больших городах, разбудил спавший народ». Неужели нужно ждать, когда «он, темный, слепой от невежества, слепой от голода», но уверенный, что «земля может принадлежать только „миру“», совершит новую «пугачевщину»? Но тот же опыт подсказывает ему, что скорее всего сработает давняя охранительная традиция, и ничего способного предотвратить бессмысленный и жестокий бунт «никогда не будет сделано». И все «из-за политических соображений». В подлинной ярости он восклицает: «Господа охранители, ничего не охранившие, бросьте эту вечную „политику“.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: