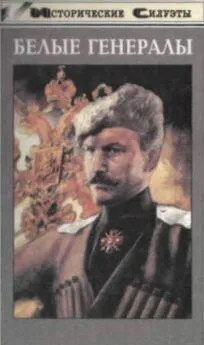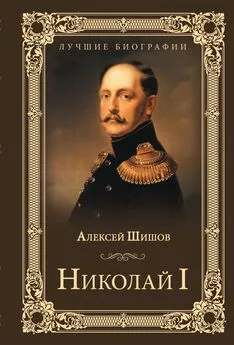Алексей Шишов - Генерал Дроздовский. Легендарный поход от Ясс до Кубани и Дона
- Название:Генерал Дроздовский. Легендарный поход от Ясс до Кубани и Дона
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Центрполиграф
- Год:2012
- Город:Москва
- ISBN:978-5-227-03734-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алексей Шишов - Генерал Дроздовский. Легендарный поход от Ясс до Кубани и Дона краткое содержание
Книга посвящена жизни и деятельности генерал-майора Михаила Гордеевича Дроздовского (1881–1919). В книге детально представлен сложный процесс образования российского офицерства, его боевого крещения во время Японской войны и на фронтах Первой мировой войны. Автором подробно описан развал Румынского фронта в 1917 — начале 191 о г. и действия М. Г. Дроздовского по восстановлению первых боеспособных частей Белой армии, а также воссозданию ее духа. Дроздовскому пришлось недолго повоевать: раненый, он умер 1 января 1919 г. Но эти и последующие акции позволили Белому воинству достойно завершить трехлетнюю Гражданскую войну и уйти в изгнание с гордо поднятой головой. «Слава побежденным!» — такими словами заканчивается один из фрагментов книги белогвардейских воспоминаний.
Книга снабжена обширными и впервые публикуемыми приложениями и входит в издаваемую издательством «Центрполиграф» книжную серию под общим названием «Россия забытая и неизвестная».
Как и вся серия, она рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся отечественной историей, а также на государственных и общественно-политических деятелей, ученых, причастных к формированию новых духовных ценностей возрождающейся России.
Генерал Дроздовский. Легендарный поход от Ясс до Кубани и Дона - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Он самый, Александр Сергеевич. Экипаж беспримерной храбрости и технической грамотности.
— Тогда, Михаил Гордеевич, кланяйтесь от меня этому капитану Нилову. Мы же с ним с одного фронта. С Румынского…
Тогда решено было добывать вооружение, боеприпасы к нему или хитростью, или захватывать силой в разложившихся воинских частях, где можно было не ожидать сопротивления караулов.
Для этой цели Дроздовский со своим помощником Войналовичем решили создать «команду разведчиков особого назначения», подобрав туда наиболее решительных людей. Во главе ее был поставлен ротмистр Бологовский, доверенное лицо командира бригады.
Однако уже вскоре команде разведчиков Болотовского пришлось заниматься… индивидуальным террором. Он стал своеобразным ответом на убийства в окопах и тылах требовательных командиров, пытавшихся наведением организованности и дисциплины сохранить свои роты, батальоны и полки от полного разложения, сохранить их боеспособность. Для фронта это стало подлинной трагедией.
В последующем ротмистр Бологовский утверждал, что его «командой разведчиков особого назначения» было «истреблено более 700 человек крупных и мелких большевиков». Эту цифру, вероятнее всего, можно поставить под большое сомнение.
Но один такой факт действительно широко известен. Добровольцы забрали в декабре 1917 года из-под румынского ареста комиссара Совнаркома в Яссах С. Г. Рошаля и пристрелили его на шоссе. Рошаль был комиссаром сводного отряда прапорщика Крыленко, который занял могилевскую Ставку Верховного главнокомандующего генерал-лейтенанта Н. Н. Духонина, «растерзанного» на вокзале перед вагоном Крыленко, ставшего первым советским Верховным главнокомандующим в ноябре 1917 года.
Неугомонные вербовщики-дроздовцы творили свое ежедневное дело не без успеха. Где-то в середине января в бригаде уже числилось более двухсот пятидесяти офицеров самых различных родов войск, имелось пятьсот лошадей, шесть разнокалиберных орудий и десять пулеметов. С каждым днем людей, лошадей и оружия становилось все больше.
В штабе Румынского фронта, вернее — в его российской части, о таком сборе оружия добровольцами Скинтейской бригады знали хорошо. На имя Щербачева пришла не одна телеграмма с «возмущением» от солдатских комитетов; то пехотного полка, то артиллерийской бригады, то бронеавтодивизиона. Щербачев приказал тогда своим штабистам;
— На подобные телеграммы комитетам не отвечать. В переписку не вступать. Союзников-румын о действиях подчиненных полковника Дроздовского не информировать. Не давать никаких поводов для дискредитации штаба фронта ни одной стороной…
В местечке Скинтея началось формирование первых подразделений добровольческой бригады. Сперва появилась конногорная батарея капитана Б. Л. Колзакова. Затем оформилась пулеметная команда. Появились стрелковые 1-я рота подполковника В. А Руммеля и 2-я рота капитана А. И. Андреевского. Из тяжелого оружия — легкая батарея полковника М. П. Ползикова, недавнего командира артиллерийского дивизиона, гаубичный взвод подполковника А. К. Медведева (командира 3-й мортирной батареи 6-й армии) и броневой отряд.
Брошенными броневиками (пулеметными и пушечными) дроздовцы обзавелись на удивление быстро и достаточно просто. Или, говоря иначе, умело «приватизировали» то, что плохо стояло у обочин фронтовых дорог. Среди офицеров нашлось немало техников и инженеров, которые смело садились за руль брошенных в прифронтовой полосе автомобилей — грузовых, легковых, одетых в железо — и доставляли их в Скинтею. Доставляли беспрепятственно.
В той «достоваловке» скинтейских добровольцев поражало одно: с брошенных на дорогах и в автопарках их бывшие экипажи не снимали даже пулеметы, оставляя в броневиках и полный комплект пулеметных лент, ручные гранаты. Не оставлялись только отличительные кожаные куртки и сухие пайки. Дроздовцы шутили:
— Как-то неудобно в наших застиранных гимнастерках будет воевать с пехотой большевиков в кожанках…
— Бросить бронемашину со всей начинкой и унести с собой в тыл все луженые банки? Непонятно…
— Что непонятно? Все понятно: броневик — вещь государственная, банка консервов и кожан — личное…
— Улавливаешь, какая разница. Психология это…
Гораздо сложнее дело обстояло с бензином. Его приходилось или покупать, или выменивать у румын, на что те — и рядовые, и их начальники — шли вполне охотно. К слову говоря, проблема с горючим стала одной из причин того, что «моторизованная» вышеописанным образом добровольческая бригада не смогла дотянуть до Дона почти все свои автомобили (грузовые и легковые) и бронемашины.
С отрядной кавалерией дело обстояло иначе. Основу конницы Румынского фронта составляли казачьи полки, особые (ополченческие) сотни и конвойные полусотни. Казаки, в своем большинстве донцы, уже покинули фронт и организованно, чаще всего походным порядком ушли домой. Домой уходили и казачьи офицеры, редко кто из них изгонялись из полков местным комитетом.
Но когда в бригаду прибыла группа офицеров 7-го драгунского полка, тогда и было принято решение о создании первого кавалерийского эскадрона, командиром которого был назначен штабс-ротмистр Аникеев. Было ясно, что добровольцы, как военная сила, должны были иметь собственную конницу.
Кони, опять же бесхозные, нашлись, на удивление, для кавалеристов сразу. Дезертиры с фронта бежали не на лошадях, а на поездах — пассажирских и пустых товарниках, уходивших в тыл. Кони были для беглых солдат весомой обузой, и потому они просто бросали их где придется.
Проблема оказалась только с кавалерийскими седлами. Михаил Гордеевич не уставал напоминать своим и без того ушлым интендантам, научившимся многому за годы войны:
— Ищите где угодно седла и конскую сбрую. Надо — доставайте из-под земли… Наши кавалеристы не скифы и не половцы. Им без седел не скакать по полю с саблей наголо… В бригадной казне деньги есть, хоть и небольшие. Покупайте лошадиную амуницию у румын, хоть в королевском гусарском полку. Ведь продадут же, как бочку бензина… Все, что лишнее на бригадных складах, смело меняйте на седла Если надо — прикажу отдать легковой автомобиль. У нас их уже избыток, сами знаете…
О том, как шло формирование дроздовской кавалерии, рассказывает в своих небольших воспоминаниях подпоручик Николай Новицкий, пятнадцатилетним петроградским кадетом записавшийся в добровольческую бригаду и ставший «дроздом» на всю Гражданскую войну:
«Во время формирования полковником М. Г. Дроздовским своего отряда в городе Яссы, в Румынии, в этот отряд добровольцами записались два кадета, приехавшие на Румынский фронт повидать своих отцов: Вирановский, 16 лет (из) Одесского корпуса, и я, 15 лет (из) Первого (столичного) кадетского корпуса Конечно, мы оба избрали конницу и попали в Первый эскадрон; Вирановский во второй взвод, а я в четвертый, которым командовал мой однокашник, штабс-ротмистр В. Бехтеев.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: