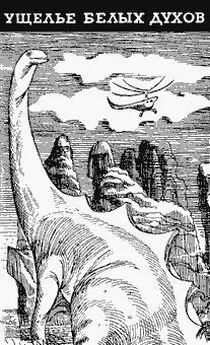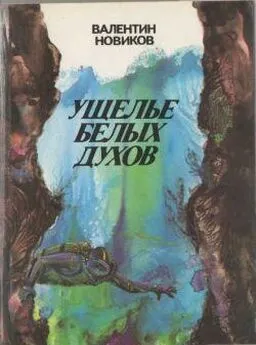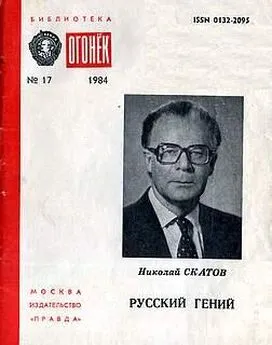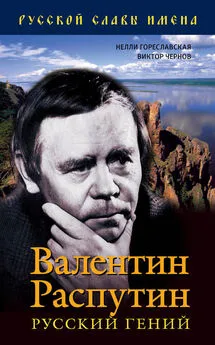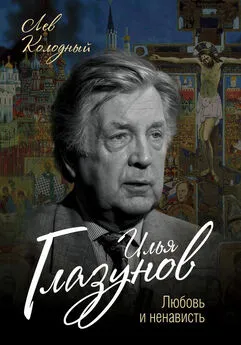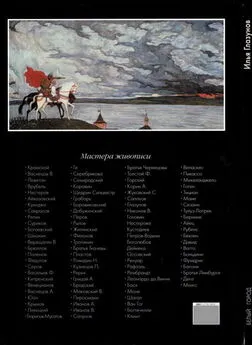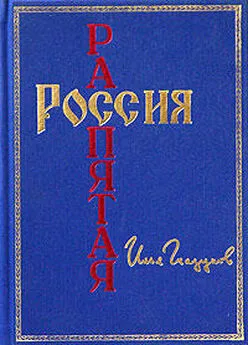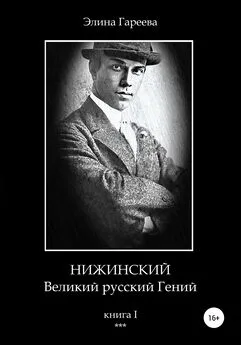Валентин Новиков - Илья Глазунов. Русский гений
- Название:Илья Глазунов. Русский гений
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Алгоритм»1d6de804-4e60-11e1-aac2-5924aae99221
- Год:2009
- Город:Москва
- ISBN:978-5-699-37511-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Валентин Новиков - Илья Глазунов. Русский гений краткое содержание
Уже полвека пытаются объяснить феномен Глазунова, а его творчество по-прежнему остается загадкой. Наш великий современник, художник номер один, он продолжает высокие традиции реализма, отечественной культуры, проникнутые всемирной отзывчивостью.
Искусство Глазунова – всегда и вызов, и призыв. Вызов предательству, надругательству над святынями, разрушению духовных основ, антикультуре. Призыв к борьбе за вечную Россию, ее возрождение и созидание. Живет и здравствует созданная им на закате минувшего века Российская академия живописи, ваяния и зодчества – это ли не подвиг во времена всеобщего упадка культуры? Книга о жизни и творчестве всемирно признанного художника – еще одна встреча с его необыкновенной личностью и грандиозным искусством.
Илья Глазунов. Русский гений - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Многочисленные именитые иностранные деятели культуры и государственные мужи, знакомившиеся с произведениями молодых художников академии и постановкой в ней учебно-воспитательного процесса, говорили о ней как о лучшем учебном художественном заведении мира. Например, дон Альфонсо, президент ведущей испанской художественной фирмы «Ансорена», более полутора веков специализирующейся на отборе лучших произведений изобразительного искусства, печально констатировал, что студенты глазуновской академии лучше знают Веласкеса и европейское искусство, чем их испанские коллеги. Увы, не только испанские. В середине 90-х годов состоялся визит делегации Российской академии в Венецианскую академию художеств. О том, что открылось во время этого визита, поделился один из его участников – проректор академии Геннадий Геннадьевич Стрельников. «Наш разговор с венецианскими академистами начался с рассказа Ильи Сергеевича о принципах воспитания художников нашей академии, о важности возрождения академической реалистической школы, при праве каждого мастера выбирать свой путь.
То, что мы услышали в ответ от редактора, повергло в шоковое состояние. Оказывается, их заботят другие проблемы. Школы нет, нет и искусства, которое, по мнению современных теоретиков, умерло. В Венецианской академии некому учить – нет руководителей творческих мастерских. Студенты не занимаются натурой, природой, не копируют старых мастеров, полностью находясь под влиянием поп-арта. Впрочем, – продолжал ректор, – такая ситуация возникает не впервые. Возможно, через некоторое время появятся новые художники, которые снова заинтересуются древним искусством и создадут что-то новое.
Смерть искусства – это даже не его собственная смерть, а смерть заказчика. Изменились вкусы. И нет ориентиров ни у публики, ни у художников.
Словно нехотя в завершение разговора нас проводили в мастерские. Зрелище оказалось удручающим. На картинах увидели некие подобия человеческих фигур, вписанные в звезды, кубы, конусы. Штрихи на полотнах, цветовые пятна, конструкторские построения, диаграммы. «Современное искусство – это выражение человека через инженерию», – пояснили нам.
Выходя из мастерских, мы были потрясены и не знали – то ли плакать, то ли смеяться. Припомнился рассказ Ильи Сергеевича о его встрече с президентом Французской академии Арно де Трюффом, который с горечью тоже говорил о том, что искусство кончилось, учить некому и нечему. То же самое провозглашал в свое время один из основателей современного модернизма, автор «Черного квадрата» К. Малевич».
Случилось так, что в XXI веке нигде в мире не осталось системы профессионального академического обучения подобной той, какая создана в Российской академии живописи, ваяния и зодчества. Она создавалась, как скромно замечает Глазунов, коллективом академии на основе русской школы реалистического искусства. Важнейшим принципом обучения в ней является обязательный выезд студентов после окончания I курса на практику в Петербург. В Эрмитаже они копируют произведения Веронезе, Рубенса, Рембрандта, Тициана, других мировых классиков. В институте имени И. Репина изучают технику гризайли, рисуя с оригиналов античных слепков. Картины старых мастеров, рассказывала мне Вера Глазунова, закончившая академию, это как идеальное учебное пособие, начиная от цвета до построения композиции. Но копирование – не просто процесс получения профессиональных знаний. Это еще и радость общения со старыми мастерами, вхождение в их духовный мир. Методику работы Брюллова и Сурикова, Врубеля и Репина студенты могут изучать и по произведениям, находящимся в собственном академическом музее, где также хранятся образцы лучших учебных работ, созданных в императорской академии, равно как и произведения, характеризующие уровень мастерства преподавателей, большинство из которых закончили Суриковский институт в мастерской портрета Глазунова. Эта мастерская стала своеобразной творческой лабораторией по отработке системы воспитания молодых художников, получившей затем развитие в стенах Российской академии. В то время как студенты художественных вузов рассылались на практику по производственным предприятиям, студенты портретной мастерской, по настоянию ее руководителя, совершали поездки в Ленинград для копирования в Эрмитаже произведений классиков, в Царское Село и Павловск, а также на Валаам, в Новгород, Псков, другие древние русские города. А на лекционных курсах они знакомились с изъятыми из духовной жизни сочинениями великих русских историков и религиозных мыслителей – А. Нечволодова, В. Ламанского, С. Гедеонова, А. Гильфердинга, Е. Классена, К. Леонтьева, С. Булгакова, И. Ильина. Впервые за десятилетия советской власти студенты мастерской на средства от выставочной деятельности своего руководителя выезжали за рубеж для знакомства с коллекциями крупнейших европейских музеев.
– В моей мастерской обучение начиналось с первого курса, – вспоминает И. Глазунов. – Рисование с гипсов в Суриковском было отменено, понятие «гризайль» (вид живописи, выполненный в оттенках какого-либо одного цвета. – В. Н.) не существовало. Не существовало также вдумчивого изучения и копирования старых мастеров. Практика студентов всех курсов обычно проводилась в городе, на фабрике и заводах, где студенты должны были отражать «производственные процессы». Однако некоторые старшие курсы ездили в Ростов Великий и даже в Великий Устюг. Самой желанной для руководства была практика в Керчи на Черном море: преподаватели загорали вместе со студентами, писали натюрморты и морские пейзажи.
Как все были удивлены, руководство института даже противилось моему требованию, чтобы первый и второй курсы проходили практику в Ленинграде, копируя в Эрмитаже и Русском музее. Я был счастлив, что мог вывезти студентов в Новгород, в Изборск и в Псково-Печерскую лавру. Темами их композиций были, как в старой академии, мифологическо-библейские сюжеты русской истории и свободные темы, дающие простор крепнувшему мастерству молодых художников.
О той поре учебы вспоминает в своей мемуарной книге «Да будет воля твоя» один из учеников Глазунова, ныне профессор его академии Михаил Шаньков: «В критическую, тяжелейшую для меня пору Илья Сергеевич не махнул на меня рукой, просил и заступался за меня на всех уровнях, но чиновники, пообещав, так ничего и не сделали. Глазунов, несмотря ни на что, поддержал меня, помог выстоять: разрешал нелегально посещать занятия в мастерской, позволял наравне со студентами приходить к нему домой, пользоваться его библиотекой… Кто был я ему? Родственник? Сын влиятельного знакомого?… Конечно же, нет. И то, что он принял меня таким, не забудется никогда.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: