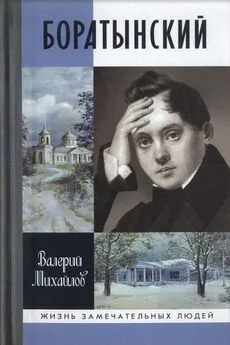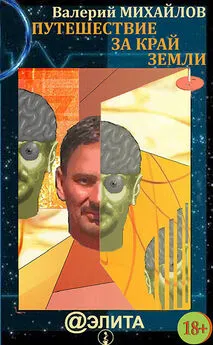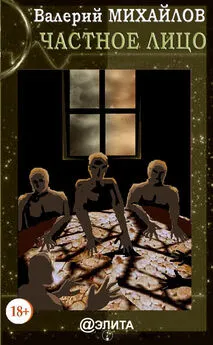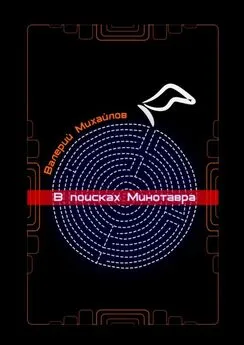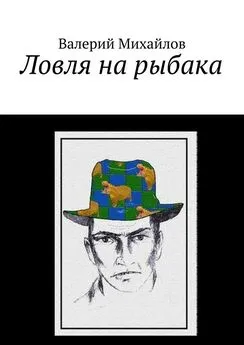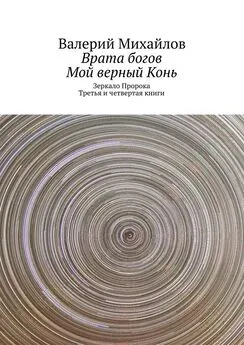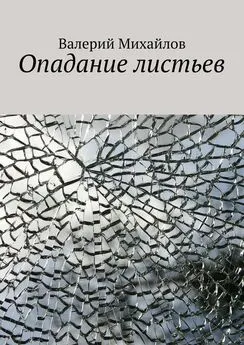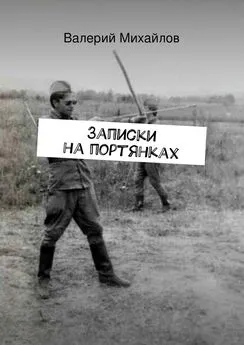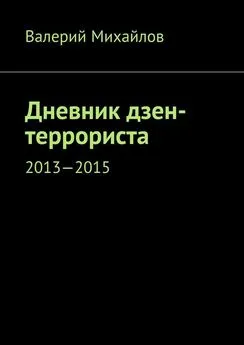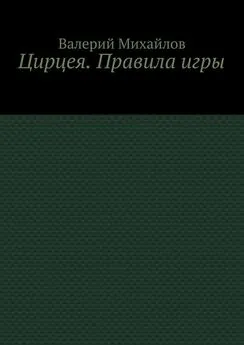Валерий Михайлов - Боратынский
- Название:Боратынский
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-235-03783-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Валерий Михайлов - Боратынский краткое содержание
Эта книга — первая биография выдающегося русского поэта Евгения Боратынского в серии «Жизнь замечательных людей».
«Мой дар убог и голос мой негромок…» — написал он как-то о себе, но это лишь чрезмерно скромная самооценка одного из лучших поэтов России, наверное, самого негромкого гения русской поэзии. Жизнь Боратынского прошла в самой сердцевине золотого века отечественной словесности. Собеседник Гнедича и Жуковского, друг Дельвига и Пушкина, сердечный товарищ Вяземского и Ивана Киреевского, Евгений Боратынский был одним из тех, кто сделал свой литературный век — золотым.
А. С. Пушкин считал Евгения Боратынского «нашим первым элегическим поэтом». По «вдумчивости в жизнь», глубине анализа чувств, проникновению в «сокрытые движения человеческой души» Боратынский — один из первых в своем поколении. Вместе с Александром Пушкиным он передает эстафету духовных исканий Фёдору Тютчеву и Михаилу Лермонтову, а затем Александру Блоку, поэтам XX и нашего XXI века.
знак информационной продукции 16+
Боратынский - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Мать, Александра Фёдоровна, с детьми Сергеем, Софией, Наталией и Варварой, заранее перебралась в Белокаменную. Сняли дом в Огородниках, в приходе церкви Святого Харитония, в Гусятниковом переулке. Они хотели увидеть Евгения пораньше, не дожидаясь, пока он доберётся до Мары. Да и худое здоровье заставило переехать в Москву: Боратынская нуждалась в помощи врачей.
Имение в Маре пришло к тому времени в упадок: мать слишком поиздержалась, тратясь на образование сыновей в Петербурге. И старшему сыну уже помогать было нечем, недаром в Финляндии у него недостало денег на офицерский мундир. Боратынский был поражён видом своей горячо любимой матери: она превратилась в старушку, подавленное настроение не покидало её. Несчастное происшествие в Пажеском корпусе, многолетняя борьба за участь Евгения, хлопоты по дому и воспитанию детей изнурили её силы и дух…
В Москве Боратынский первым делом вернул долг Рылееву: 500 рублей — половину денег, полученных два года назад за книгу, издание которой не осуществилось. Сам Кондратия не нашёл — передал через Дельвига. По получении долга Рылеев оставил записку барону: «Потомку тевтонов, сладостно поющему на русский лад и мило на лад древних греков, не поэт, а гражданин желает здоровья, благоденствия и силы духа, лень поборающей! Вместе с сим уведомляет он о получении 500 рублей, этой прозаической потребности, которая и поэта, и гражданина мучит только тогда, когда нечего есть. Сего со мною не было, и потому гражданин Рылеев не помнил о долге поэта Баратынского».
…Октябрь 1825 года — рокового года для Рылеева. В декабре случится восстание в Петербурге, и Рылеев окажется в числе главных обвиняемых. А позже, когда следствие окончится и наступит день исполнения приговора, старый товарищ Антон Дельвиг будет весь день бродить сам не свой по городу вместе с Николаем Путятой: в конце концов они повернут в Петропавловскую крепость — чтобы хотя бы издали увидеть своего друга, поэта и гражданина Рылеева, побыть с ним рядом в его последние минуты, — и станут свидетелями казни…
Боратынский в Москве редко выбирался из дому. Один из его визитов был к старому поэту Ивану Ивановичу Дмитриеву, где он познакомился с М. П. Погодиным и М. М. Карниолиным-Пинским. Погодин отметил в своём дневнике, что разговор шёл о театре, о Сенате, о журнале, о Пушкине. А позже, весной 1826 года, записал отзыв Дмитриева о Боратынском: пишет-де стихи хорошо, а читает их дурно, «без всякой претензии», не то что Василий Львович Пушкин, который «хочет выразить всякое слово». По мнению Дмитриева, Державин также читал очень дурно свои стихи.
Это свидетельство крайне интересно: значит, к тому времени Боратынский оставил всякую аффектацию в чтении, что была свойственна ему в молодости. То есть стал проще, естественнее. Ушла прочь малейшая театральщина в декламации. По Дмитриеву, это было дурно, — однако безыскусность и есть высшее искусство.
Литературовед М. А. Цявловский в 1914 году сделал такое замечание: «Баратынский как-то не ценил ума и любезности Дмитриева. Он говаривал, что, уходя после вечера, у него проведённого, ему всегда кажется, что он был у всенощной. Трудно разгадать эту странность. Между тем он высоко ставил дарование поэта». Однако, быть может, разгадка этой странности не так трудна, как кажется. Наверное, вечерам у Дмитриева была свойственна та ритуальная торжественность, без которой хозяин дома посчитал бы пиитическое общение приземлённым и пошлым. Но эти возвышенные условности, по-видимому, явно претили Боратынскому — как неестественные, и он воздавал им должное витиеватой иронией.
Другой визит был в Остафьево, в усадьбу князя Вяземского. Боратынский отправился туда полубольным, «с круговращением Меркурия в жилах», как пошутил Александр Муханов, составивший ему компанию. Но проехавши с десяток вёрст, друзья попали в метель, промёрзли и вернулись в Москву…
Глубокая ипохондрия матери, её внезапная немощь так поразили Боратынского, что он по-настоящему заболел. С ними повторилась обычная история: душевные переживания быстро оборачивались тяжёлым недугом. Юношей, после исключения из Пажеского корпуса, он перехворал особенно тяжко и чуть не умер. Теперь он страдал хоть и не так продолжительно, но всё же достаточно сильно.
Нет или не сохранилось никаких свидетельств от самых близких поэту людей о том, что́ же происходило той осенью в его московском доме. Но вот что сам поэт с прямотой и искренностью поведал Николаю Путяте, с которым он так сроднился душой в Финляндии:
«Ежели с приезда в Москву я к тебе не писал, милый Путята, я виноват не душой, а бренным моим телом, заболевшим через неделю после. Я теперь ещё не выезжаю: однако ж в первые дни успел повидаться с твоим батюшкой, с Рылеевым и с Мухановым. Странно, что, проживши почти два месяца в Москве, я принуждён писать к тебе как будто из Кюмени, ибо не знаю ничего нового, ничего не мог заметить, почти ни с кем не познакомился и сидел один в моей комнате с ветхим моим сердцем и с ветхими его воспоминаниями. <���…> — За неимением занимательнейшего предмета буду говорить о себе. Я нашёл семью свою в Москве. Свидание было радостно и горестно. Я нашёл мать мою в самом жалком положении, хотя приезд мой оживил её несколько. Брат Путята, судьба для меня не сделалась милостивее. Поверишь ли, что теперь именно начинается самая трудная эпоха моей жизни. Я не могу скрыть от моей совести, что я необходим моей матери, по какой-то болезненной её нежности ко мне, я должен (и почти для спасения её жизни) не расставаться с нею. Но что же я имею в виду? Какое существование? Его описать невозможно. Я рассказывал тебе некоторые подробности, теперь всё то же, только хуже. Жить дома для меня значит жить в какой-то тлетворной атмосфере, которая вливает отраву не только в сердце, но и в кости. Я решился, но признаюсь, не без усилия. Что делать? Противное было бы чудовищным эгоизмом… Прощай, свобода, прощай, поэзия! Извини, милый друг, что налегаю на твою душу моим горем, но, право, мне нужно было несколько излиться <���…>».
Боратынский задумал перевестись в один из полков, квартировавшихся в то время в Москве, чтобы находиться рядом с матерью. Опять ему требовалась поддержка Дениса Давыдова, чтобы тот договорился с генералом Закревским. Уже и Финляндия, место его изгнания, рисовалась ему совсем иначе, чем прежде:
«Приезжай, милый Путята, поговорим ещё о Финляндии, где я пережил всё, что было живого в моём сердце. Её живописные, хотя угрюмые горы походили на прежнюю судьбу мою, также угрюмую, но по крайней мере довольно обильную в отличительных красках. Судьба, которую я предвижу, будет подобна русским однообразным равнинам, как теперь покрытым снегом и представляющим одну вечно унылую картину <���…>».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: