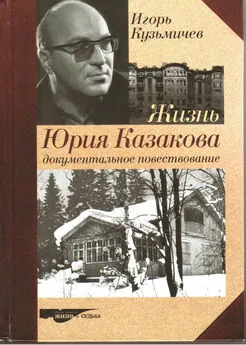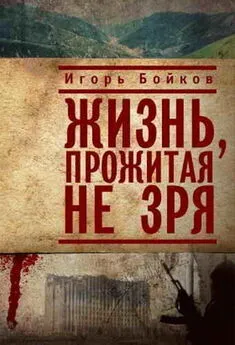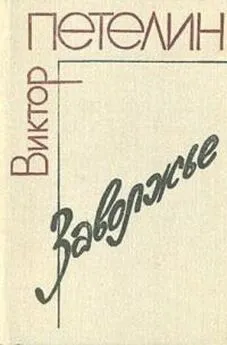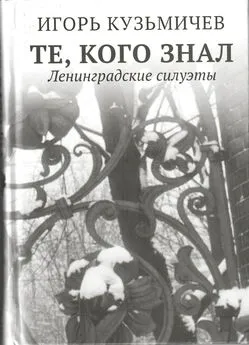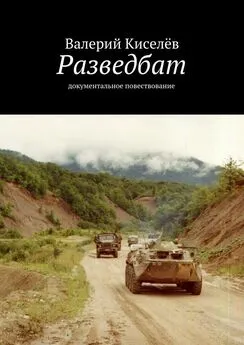Игорь Кузьмичев - Жизнь Юрия Казакова. Документальное повествование
- Название:Жизнь Юрия Казакова. Документальное повествование
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «ИП Князев»c779b4e2-f328-11e4-a17c-0025905a0812
- Год:2012
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-7439-0160-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Игорь Кузьмичев - Жизнь Юрия Казакова. Документальное повествование краткое содержание
Юрий Павлович Казаков (1927–1982) – мастер психологического рассказа, продолжатель русской классической традиции, чья проза во второй половине XX века получила мировую известность. Книга И. Кузьмичева насыщена мемуарными свидетельствами и документами; в ней в соответствии с требованиями серии «Жизнь и судьба» помещены в Приложении 130 казаковских писем, ряд уникальных фотографий и несколько казаковских рассказов.
Жизнь Юрия Казакова. Документальное повествование - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
И уже в XX веке Пришвин подхватывал: «Метод писания, выработанный мной, можно выразить так: я ищу в жизни видимой отражения или соответствия непонятной и неведомой жизни моей собственной души».
Короче говоря, внутреннюю, духовную биографию, поэтическую личность и, что называется, догмат веры Казакова следует извлекать прежде всего из его рассказов. Он сам подталкивал именно к такому восприятию его творчества. Между прочим, слово «творчество» Казаков не любил, – наверное, еще и потому, что не отделял себя от своих произведений, считая себя органической их ипостасью. Автобиографизм в литературе Казаков трактовал как непременное условие художественности. «Произведения всех авторов автобиографичны, – заявлял он, – автобиографичны в том смысле, что все, чем их произведения наполнены, – события, детали, пейзажи, вечера, сумерки, рассветы и т. д. – когда-то происходило в жизни самого автора. Не в той последовательности, в какой описано в рассказе или в романе, но автор это должен был пережить сам».
Так что и в рассказах Казакова – может быть, «все вымысел, но основа – истина». В них закономерно присутствуют «его дух, его характер, его физиономия», в них запечатлена «жизнь души» писателя, его «иероглифическая биография».
Видимо, по причине мощного, но сдерживаемого художественного темперамента, обладая напряженно-чутким слухом и остро осязая предметную, вещную плоть мира, Казаков неслучайно усмотрел свой писательский удел именно в психологическом рассказе. Трагический лирик по натуре, он быстро постиг поэтические ресурсы такого рассказа и возможности его отточенной формы.
Еще в ноябре 1959 года Казаков писал Виктору Конецкому – не без усмешки, но все же отчетливо понимая значимость своих слов, – о том, что задумал он «нечто грандиозное». «Задумал я, – писал Казаков, – не более, не менее, как возродить и оживить жанр русского рассказа – со всеми вытекающими отсюда последствиями. Задача гордая и занимательная. Рассказ наш был когда-то силен необычайно – до того, что прошиб даже самонадеянных западников. А теперь мы льстиво и робко думаем о всяких Сароянах, Колдуэллах, Хемингуэях и т. д. Позор на наши головы!.. Давай напряжем наши умишки и силишки и докажем протухшему Запад у, что такое советская Русь!»
Было бы ошибкой посчитать эти слова за проявление молодого зазнайства, а тем паче неуважения к именитым иностранным прозаикам. Когда в июле 1961 года застрелился Хемингуэй, Казаков откликнулся: «Мы гордились им так, будто он был наш, русский писатель. Мысль о том, что Хемингуэй живет, охотится, плавает, пишет по тысяче прекрасных слов в день, радовала нас, как радует мысль о существовании где-то близкого, родного человека…»
Казаков с неподдельным интересом и доверием относился к зарубежным писателям, усердно усваивал их опыт, литературу считал самовыражением человечества – в этом нет никаких сомнений. А любопытно другое: этот дух соревнования, эта жажда равенства с признанными авторитетами, ощущение своего полноправного участия во всемирном литературном процессе.
В 1979 году, рассуждая о своей долголетней приверженности рассказу, Казаков говорил: «Рассказ дисциплинирует своей краткостью, учит видеть импрессионистически – мгновенно и точно. Наверное, поэтому я и не мог уйти от рассказа. Беда ли то, счастье ли: мазок – и миг уподоблен вечности, приравнен к жизни». И при этом он как бы сетовал: «А вот с романом я пока терплю фиаско. Наверное, роман, который, в силу своего жанра, пишется не так скупо и плотно, как рассказ, а гораздо жиже, – не для меня… так, видно, и суждено умереть рассказчиком…»
Думается, никакого фиаско с романом Казаков, собственно, не терпел, конкретного романа он, по-моему, никогда всерьез не замышлял и не писал, правда любил время от времени о романе и романистах порассуждать. Паустовскому в 1961 году признался, что «всегда страшно завидовал» романистам, и советовался, – может быть, стоит перешерстить «Северный дневник», прослоить его рассказами, получится «увесистая книга листов на 15»: «Все мои рассказы и записки будут в этом романе как бы главами, частями. А почему бы и не роман?! Речь в нем будет вертеться все вокруг одного и того же: вокруг Белого моря, рыбаков, времен года… Кроме того везде будет присутствовать личность автора…» Паустовского он просил: «Вы, пожалуйста, напишите мне – будет это романом или нет, все это собрание очерков и рассказов».
Мысли о романе (но не конкретные планы) возникали у Казакова и позже. Т. М. Судник в 2002 году вспоминала: «Ему хотелось попробовать писать роман – он почувствовал вкус к этому жанру, когда работал над переводом трилогии казахского писателя А. Нурпеисова: ему нравилось, что у него есть работа «в пяльцах» (как говорил Пушкин), что роман «дисциплинирует». Он тогда постоянно размышлял о сопоставлении романа и рассказа, говорил, что задуманный надолго роман – благоприятная почва, на которой вырастают рассказы. Но так и остался рыцарем рассказа…»
На вопрос: что больше дисциплинирует и почему – роман или рассказ? – Казаков для себя ответил на практике. Романа как такового он не писал, но попытка взглянуть на все написанное, как на «роман», на некое целое – примечательна, и потому воспринять казаковские рассказы в их единстве, как некое подобие романа, как суверенное художественное полотно, отражающее «развитие и повторение тайных тем в явной судьбе» (В. Набоков), как личную «летопись впечатлений» – вполне уместно.
В. Шукшин однажды обмолвился: «Рассказчик всю жизнь пишет один большой роман. И оценивают его потом, когда роман дописан и автор умер». Это схвачено верно, хотя всякий «роман рассказчика», разумеется, гипотетичен. В его «сюжете» нет направленного сквозного действия, кроме разве что движения отраженного в нем времени. Но и в этом романе, при всей его условности, в этой книге жизни неизбежна цельность авторского миропонимания и есть любимые писателем герои, несущие от рассказа к рассказу, будто от главы к главе, врученную им нравственную эстафету. Автор в таком романе может перебирать и словно бы примеривать к себе варианты непрожитых судеб и, без сомнения, является в нем центральной фигурой, независимо от того, какие он изыскивает возможности для самовыражения.
Высветить прихотливую канву казаковского «романа», передать его художественный колорит и эмоциональную атмосферу, обозначить вершины духовной эволюции его лирического героя, прояснив тем самым «иероглифическую биографию» писателя, – и неимоверно трудно, и заманчиво.
Казаков как-то заметил, что каждый писатель, имеющий смелость причислить себя к настоящей литературе, занят всю жизнь одним и тем же кругом проблем. Этот подсказанный талантом и обусловленный конкретным душевным опытом круг проблем и определяет содержание и внутренние связи в том своеобразном романе, который в итоге всех своих многолетних усилий создает рассказчик. Применительно к себе Казаков эти корневые проблемы сформулировал так: «Счастье и его природа, страдания и преодоление их, нравственный долг перед народом, любовь, осмысление самого себя, отношение к труду, живучесть грязных инстинктов…»
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: