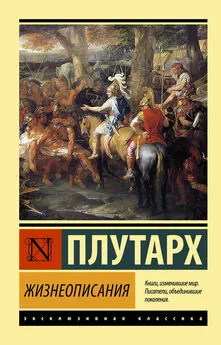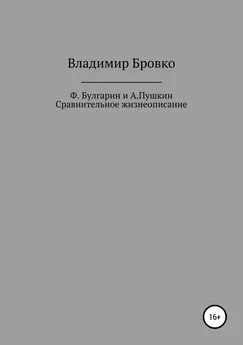Плутарх - Сравнительные жизнеописания в 3-х томах
- Название:Сравнительные жизнеописания в 3-х томах
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство «Наука»
- Год:1964
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Плутарх - Сравнительные жизнеописания в 3-х томах краткое содержание
В послесловии переводчик пишет: «Я вижу Плутарха добрым, умным (хотя и не мудрым), многоопытным и благожелательным — главное, благожелательным! — дедушкой, который охотно, пожалуй даже слишком охотно, раскрывает перед детьми и внуками неисчерпаемые кладовые своей памяти и эрудиции… Вот такого-то дедушку-рассказчика я и надеялся познакомить с тобою, благосклонный читатель», — и посвящает свой труд памяти отца, поэта Переца Маркиша.
Текст содержит большое количество диакритических знаков, а также огромное число сносок и ссылочных переходов, поэтому для чтения данной книги рекомендуются программы-читалки CoolReader3 или AlReader2, в которых этот файл тестировался.
Сравнительные жизнеописания в 3-х томах - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
XIII. Вслед за тем Пелопид, избранный беотархом [749] Беотарх — политический и военный руководитель Беотийского союза. Число беотархов (они переизбирались ежегодно) было не постоянным (7—11).
вместе с Мелоном и Хароном, приказывает немедленно окружить крепость кольцом укреплений и начать приступ со всех сторон одновременно, спеша изгнать лакедемонян и очистить Кадмею до того, как подойдет войско из Спарты. И он торопился не напрасно: спартанцы, беспрепятственно покинув Беотию согласно заключенному договору, уже в Мегарах встретились с Клеомбротом [750] Спартанский царь Клеомброт I (380–371 гг. до н. э.).
, который во главе большого войска двигался к Фивам. Из трех наместников, правивших Фивами, двоих — Гериппида и Аркисса — лакедемоняне приговорили к смерти, а третий, Лисанорид, заплатил огромный штраф и покинул Пелопоннес.
Этот подвиг и подвиг Трасибула греки называли «братьями», имея в виду удивительно сходные в обоих случаях храбрость участников, опасности, которые им грозили, остроту борьбы и, наконец, благосклонность судьбы. Трудно назвать другой пример, когда бы горстка людей, лишенных всякой помощи и поддержки, благодаря лишь природной отваге, одолела противника, настолько превосходящего их числом и силою, оказав неоценимые услуги отечеству. Но подвиг Пелопида делает особенно славным последовавшая за ним перемена обстоятельств. Война, разрушившая величие Спарты и покончившая с господством лакедемонян на суше и на море, началась с той ночи, когда Пелопид, не захватив ни единого караульного поста, не овладевши ни стеною, ни крепостью, но просто явившись с одиннадцатью товарищами в частный дом, расторг и разбил (если воспользоваться образным выражением для описания истинных событий) узы лакедемонского владычества, считавшиеся нерасторжимыми и несокрушимыми.
XIV. Итак, когда большая спартанская армия вторглась в Беотию, устрашенные афиняне отказались от союза с Фивами и, привлекши к суду всех, кто держал сторону беотийцев, одних казнили, других отправили в изгнание, третьих подвергли денежным штрафам. Положение фиванцев, оставшихся в полном одиночестве, казалось крайне затруднительным, и Пелопид с Горгидом, тогдашние беотархи, задумали снова поссорить Афины со Спартой при помощи вот какой хитрости. Спартанец Сфодрий, прекрасный воин, но человек легкомысленный, исполненный несбыточных надежд и неразумного честолюбия, был оставлен с отрядом возле Теспий, чтобы встречать и брать под защиту тех, кто пожелает бежать от фиванцев. Пелопид частным образом подослал к нему одного купца, своего друга, с деньгами и устным предложением, — оно соблазнило Сфодрия больше, чем деньги, — попытать удачи в деле более значительном, нежели то, что ему поручено, и, неожиданно напав на беспечных афинян, отбить у них Пирей. Ведь ничто не доставит спартанцам такой радости, как захват Афин, а фиванцы обижены на афинян, считают их предателями и помогать им не станут. Сфодрий в конце концов согласился и однажды ночью вторгся со своими воинами в пределы Аттики. Он дошел до Элевсина, но здесь воины испугались, и, видя свой замысел раскрытым, он повернул назад, ставши виновником нешуточной и нелегкой для Спарты войны.
XV. После этого афиняне с величайшей охотой снова заключили союз с фиванцами и, домогаясь господства на море, разъезжали повсюду, привлекая на свою сторону склонных к отпадению греков [751] Это было началом Второго афинского морского союза (377 г. до н. э.).
. А между тем в Беотии фиванцы при всяком удобном случае вступали в столкновения с лакедемонянами и завязывали бои, сами по себе незначительные, но оказавшиеся отличным упражнением и подготовкой, и благодаря этому воспряли духом и закалились телом, приобретя в борьбе опыт, воинский навык и уверенность в своих силах. Вот почему, как рассказывают, спартанец Анталкид заметил Агесилаю, когда тот вернулся из Беотии раненый: «Да, недурно заплатили тебе фиванцы за то, что, вопреки их желанию, ты выучил их воевать и сражаться». Но, по сути дела, учителем был не Агесилай, а те, кто своевременно, разумно и умело, точно щенков, напускали фиванцев на противника, а затем благополучно отводили назад, дав насладиться вкусом победы и уверенности в себе. Среди этих людей самым знаменитым был Пелопид. С тех пор как он впервые стал командующим, каждый год, до самой смерти, его неукоснительно избирали на высшие должности и он был то предводителем священного отряда [752] См. ниже, гл. XVIII .
, то — чаще всего — беотархом.
Спартанцы были разбиты и бежали при Платеях и Теспии, где среди прочих погиб Фебид, захвативший Кадмею; значительные силы их Пелопид обратил в бегство и при Танагре — там он убил гармоста [753] Гармост — «распорядитель», «устроитель»; так назывались полномочные наместники и начальники спартанских гарнизонов в городах, зависевших от Лакедемона. В Фивах во время спартанской оккупации таких наместников, как мы видели, было сразу три.
Пантоида. Эти сражения разумеется, придавали победителям мужества и отваги, однако и побежденные не до конца пали духом: ведь настоящих битв, когда войска открыто выстраиваются в правильные боевые линии, еще не было, но фиванцы достигали успеха в коротких и стремительных вылазках, то отступая, то сами начиная бой и преследуя неприятеля.
XVI. Тем не менее дело под Тегирами, явившееся в какой-то мере приготовлением к Левктрам, доставило Пелопиду громкую известность, поскольку товарищи по командованию не могли оспаривать у него честь победы, а враги — хоть чем-нибудь оправдать свое поражение. Вот как это было. Замыслив овладеть городом Орхоменом, который принял сторону Спарты и в интересах собственной безопасности впустил к себе две моры [754] Мора — отряд лакедемонской пехоты численностью от 400 до 900 человек.
лакедемонян, Пелопид выжидал удобного случая. До него доходит известие, что гарнизон двинулся походом в Локриду, и, надеясь взять Орхомен голыми руками, он выступил со священным отрядом и немногочисленной конницей. Но, приблизившись к городу, Пелопид узнал, что гарнизон сменили прибывшие из Спарты части, и повел своих людей назад кружной дорогой, предгорьями, через Тегиры — другого пути не было, так как река Мелан начиная от самых истоков разливается глубокими болотами и озерами, делая непроходимой всю долину.
Подле самого болота стоит маленький храм Аполлона Тегирского с оракулом, который пришел в упадок сравнительно недавно, а до Персидских войн даже процветал — при жреце Эхекрате, обладавшем даром прорицания. Здесь, по преданию, бог появился на свет. Ближайшая гора называется Делос, и у ее подножия останавливаются разлившиеся воды Мелана. Позади храма бьют два ключа, изобилующие удивительно холодной и сладкой водой; один из них мы до сего дня зовем «Пальмой», а другой «Маслиной», словно богиня разрешилась от бремени не меж двух деревьев, а меж двух ручьев, Рядом и Птой, где, как передают, внезапно появился вепрь, испугавший Латону, и места, связывающие рассказы о Пифоне и Титии с рождением бога. Однако бóльшую часть относящихся к этому доказательств я опускаю. Ведь от предков мы знаем, что Аполлон не принадлежит к числу тех божеств, что были рождены смертными, но потом, претерпев превращение, сделались бессмертны, как Геракл и Дионис, сбросившие с себя, благодаря своей доблести, все, что подвержено страданию и смерти; нет, он один из вечных и нерожденных богов, если только следует полагаться в столь важных вопросах на слова самых разумных и самых древних писателей.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:

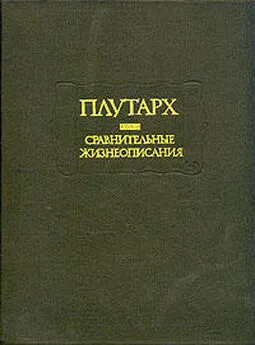
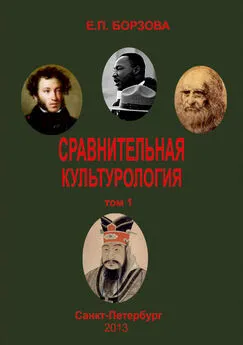
![Абдуррахман аль-Джабарти - Удивительная история прошлого в жизнеописаниях и хронике событий. [Полная версия в 3-х томах.]](/books/1064715/abdurrahman-al.webp)