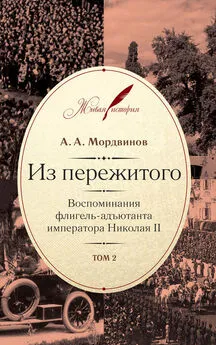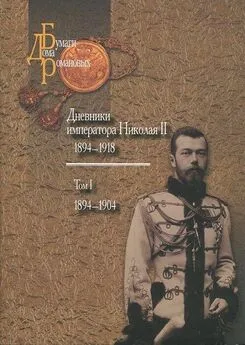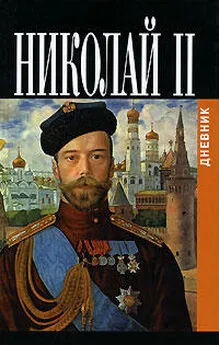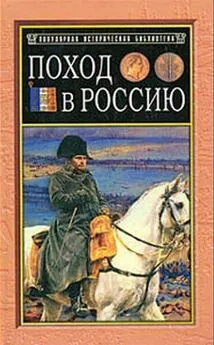Анатолий Мордвинов - Из пережитого. Воспоминания флигель-адъютанта императора Николая II. Том 2
- Название:Из пережитого. Воспоминания флигель-адъютанта императора Николая II. Том 2
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Кучково поле
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9950-0413-4, 978-5-9950-0415-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Анатолий Мордвинов - Из пережитого. Воспоминания флигель-адъютанта императора Николая II. Том 2 краткое содержание
Впервые в полном объеме публикуются воспоминания флигель-адъютанта императора Николая II А. А. Мордвинова.
Во второй части («Отречение Государя. Жизнь в царской Ставке без царя») даны описания внутренних переживаний императора, его реакции на происходящее, а также личностные оценки автора Николаю II и его ближайшему окружению. В третьей части («Мои тюрьмы») представлен подробный рассказ о нескольких арестах автора, пребывании в тюрьмах и неудачной попытке покинуть Россию. Здесь же публикуются отдельные мемуары Мордвинова: «Мои встречи с девушкой, именующей себя спасенной великой княжной Анастасией Николаевной» и «Каким я знал моего государя и каким знали его другие».
Издание расширяет и дополняет круг источников по истории России начала XX века, Дома Романовых, последнего императора Николая II и одной из самых трагических страниц – его отречения и гибели монархии.
Из пережитого. Воспоминания флигель-адъютанта императора Николая II. Том 2 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Я убежден, что английское население ему этого не забудет, а русское никогда ему не простит…
Из-за бесчеловечного, ни на чем не основанного отказа в гостеприимстве затем последовала в августе «охранительная» поездка в Сибирь.
По словам, неоднократно сказанным Керенским графу Бенкендорфу, эта сибирская ссылка тоже не должна была длиться более 3–4 месяцев.
Он утверждал, что в конце ноября 1917 года, по закрытии работ Учредительного собрания, ничто не будет мешать Их Величествам возвратиться в Царское Село или куда они пожелают…
Знаменитое «русское» Учредительное собрание действительно открылось революционером Черновым, но было быстро разогнано, как уверяли, одним вооруженным матросом, а дальнейшее, как, впрочем, бывшее и ранее, уже никакому преступлению помешать не могло 68…
Один из очевидцев, находившихся в те дни в Пскове, а затем и в Ставке, но не бывший в нашем императорском поезде, в своих напечатанных воспоминаниях упоминает и о тогдашних настроениях лиц свиты, сопровождавших государя в этой последней поездке.
Его рассказ, в общем, верен и, пожалуй, справедлив, насколько могут быть верны, глубоки и справедливы мимолетные впечатления человека, в свою очередь не менее, а скорее более других потрясенного внезапным несчастием.
Вот почему мне думается, что не только ему, но и никому другому не следовало бы говорить с такою уверенностью о двух моих сослуживцах по свите, которые, по его словам, «особенно сильно волновались лишь из-за будущего для себя».
Я лично, находясь в постоянном общении с ними, далеко не вынес такого впечатления.
И они, как и упомянутый наблюдатель, были одинаково со всеми остальными удручены неожиданным известием и, как все мы, в первые часы были довольно сильно раздражены на государя – именно потому, что любили и были ему искренно преданны, – за его, как нам казалось, столь поспешное отречение.
Но ни это раздражение, ни высказывавшиеся порою горькие упреки отнюдь не имели, как я ясно чувствовал, отголоска чего-либо личного, особенно себялюбивого, или возбуждения от внезапно рухнувшей карьеры.
Родина, беспокойство за государя и его семью, опасения за исход войны, полное презрение к Временному правительству, ожидаемый всеобщий развал – вот что одинаково со всеми остальными высказывалось совершенно искренне и этими «заподозренными», и, быть может, с этим главным волнением о грядущем «несчастии всех» могли невольно связываться и личные опасения за свое будущее, но лишь как частицы этих всех.
Каждый из нас, вероятно, переживал нахлынувшие события по-своему, с оттенком, присущим его характеру, но то общее, невыразимо тяжелое, что одинаково чувствовалось нами всеми и что так сплоченно нам тогда пришлось переживать вместе, наполняет меня до сих пор особенно теплым чувством к моим тогдашним спутникам по этой поездке.
К некоторым из них я относился ранее совсем равнодушно, многих любил, но с тех дней эта разница почти исчезла.
Я ко всем отношусь теперь почти с одинаковой привязанностью: дни совместно перенесенного горя сближают сильнее, чем годы радости.
Двух из моих товарищей по тогдашней свите – адмирала К. Д. Нилова и Вали Долгорукова – уже нет более в живых, и память о них, как горячо любивших государя и Родину людей, навсегда сохранится в моем сердце.
Остальные – граф Фредерикс, В. Н. Воейков, граф А. Н. Граббе, К. А. Нарышкин, профессор С. П. Федоров и герцог Лейхтенбергский – живут разбросанными в неизвестном мне пространстве мира, но и к ним очень часто обращается моя память.
О многих из них мне приходилось слышать не раз очень поспешные, пристрастные отзывы.
Я должен сознаться, что такие суждения меня наполняли не только чувством горечи, но и глубокой обиды за них.
Я постоянно чувствовал, а отчасти и твердо знал, что их судили главным образом те, кто в тогдашние дни должен был бы поглубже вдуматься в свои собственные поступки и речи и сильнее, чем кто-либо другой, сознавать все благородство, величие и особую спасительность для них слов: «Не судите, да не судимы будете».
Особенно часто в различных обвинениях и упреках упоминалось также имя графа Граббе, прежде всего за его тогдашнее якобы бездействие.
Он был командиром конвоя Его Величества, и с отречением государя его положение было довольно сложно.
В те первые два-три дня у него являлось два императора, императрица Александра Федоровна и государыня-мать, разделенные все четверо большим пространством, которых его воинский долг и присяга повелевали ему охранять.
Положение вновь вступавшего на престол государя Михаила Александровича, находившегося сначала в Гатчине, а затем в бунтующем Петрограде без всякой охраны и конвоя, очень тревожило Граббе. Он неоднократно высказывал свои опасения по пути из Пскова в Могилев и намеревался по приезде в Ставку отправить немедленно одну сотню конвоя в Петроград для охраны Михаила Александровича, а самому с одной сотней оставаться в Могилеве при государе, где была еще одна рота собственного Его Величества сводного полка.
Государь тогда еще был окружен достаточным наружным вниманием и должной охраной. Ожидать каких-либо буйств со стороны ничтожного могилевского гарнизона или местных, в громадном большинстве преданных государю жителей города не было оснований.
Опасность для государя подкрадывалась не оттуда, а со стороны далекого Временного правительства, с такой почтительностью осведомлявшегося «о дальнейших намерениях Его Величества» и заявлявшего затем за своей подписью, что оно «предоставит бывшему императору беспрепятственное следование в Царское Село, а оттуда за границу».
Мысль о злобном коварстве даже этих злобно-враждебных людей не могла прийти в голову никому. С такой неощутимой хитростью было трудно бороться не только конвою, но и % русского народа.
В этом отношении положение верной швейцарской гвардии, перебитой при защите короля во время Французской революции, было ясно и просто 69.
Она имела дело с явными врагами и резкими проявлениями буйства; у нас в Могилеве и Пскове бороться с оружием в руках было пока еще не с кем. Там текла по виду почти обычная жизнь, не вызывавшая даже особой необходимости усиления вокруг дворца или императорского поезда обычных караульных постов.
Змея предательства и в те дни походила на индийскую кобру – ее замечают, как говорят, только тогда, когда она уже смертельно укусила.
Думая с неописанно гадливым чувством о поступке Временного правительства по отношению к бессильному государю, я с не меньшим ужасом думаю не столько о решимости этих людей, сколько о той легкости, вернее, простоте, с которой подобное тайное «постановление» удалось самозваному правительству привести в исполнение.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: