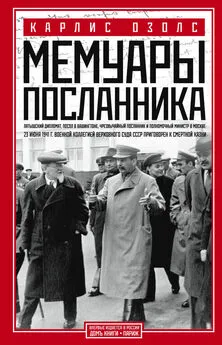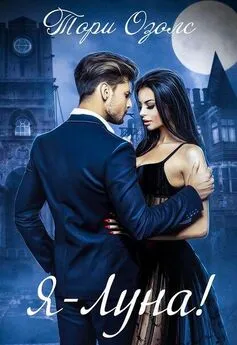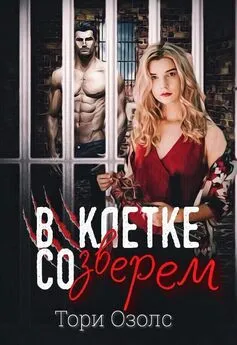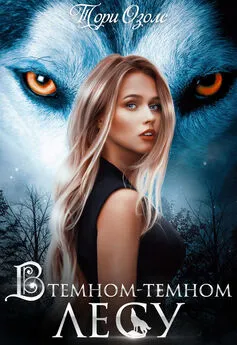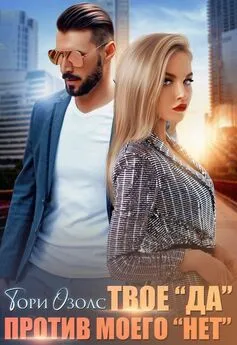Карлис Озолс - Мемуары посланника
- Название:Мемуары посланника
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Центрполиграф»a8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-227-05761-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Карлис Озолс - Мемуары посланника краткое содержание
Карлис Озолс – сын крестьянина, экстерном окончил реальное училище в Санкт-Петербурге и Рижский политехникум, став инженером-механиком. Одновременно с этим работал на заводах в России. В 1915 г. был командирован Главным артиллерийским управлением в США.
После объявления независимости Латвии в 1920 г. стал представителем правительства Латвии в США. Тогда же назначен председателем реэвакуационной комиссии в Москве. В 1923–1929 гг. занимает должности посла, чрезвычайного посланника и полномочного министра Латвии в СССР, заключает договора о ненападении и торговле. В октябре 1934 г. попал в опалу и был уволен со службы в МИДе. После присоединения Латвии к СССР 25 августа 1940 г. арестован. 17 октября того же года переведен в тюрьму в Москве. 23 июня 1941 г. Военной коллегией Верховного суда СССР приговорен к смертной казни.
Книга К. Озолса впервые публикуется в России.
Мемуары посланника - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Ни в темные дни реакции, ни в светлые дни революции крестьянские массы не были большевистскими и не будут ими никогда. В последнем письме, полученном мной от старика крестьянина, говорится: «Если ты вернешься, найдешь свой народ несчастным. Нет счастливых лиц, радости, я часто думаю и гадаю, что это за страшная болезнь сделала нас такими несчастными».
Еще не так давно все прибалтийское крестьянство объединилось в день торжества, когда был воздвигнут грандиозный памятник крестьянскому борцу за свободу, против немецкого влияния, с надписью: «Отечество и свобода – драгоценнейшие сокровища на свете».
За эти идеалы, а не идеалы большевиков, которые бесстыдно продали латышей их вековым врагам немцам, прибалтийское крестьянство боролось и будет бороться.
Душа моя, душа русского крестьянина, исстрадалась, я не могу больше молчать. Хочу бросить хотя бы соломинку погибающему народу, авось другие подадут корабли».
Признаться, я не надеялся на то, что голос мой будет услышан массами, статья окажет какое-нибудь влияние. Мне важно было, чтобы кто-нибудь, все равно кто, где, в каком органе, сказал бы правду, попробовал рассеять хоть немного эти тяжкие тучи лжи. Результат оказался совсем непредвиденным. Со всех концов Америки я стал получать письма, больше всего, конечно, от латышей. Какая-то женщина, Марголик из Детройта, написала, как со слезами читает и перечитывает мою статью, чуть ли не молится на нее. Рассказывает о себе, о том, как приехала в Америку после ранения в ногу, а на войне сражалась простым солдатом, желая разделить участь своих четырех братьев, из которых двое остались без рук, а двое других пропали без вести. Письмо произвело на меня глубокое впечатление. При всей выдержке и крепких нервах я заплакал. Эти признания, растроганность женщины, сердечный тон письма как-то невольно и неожиданно даже для меня самого разбудили воспоминания о собственной семье, а от нее я давно уже не получал никаких известий.
Я не опускал рук. Взявшись за борьбу, должен был ее продолжать. После первой статьи я отправил вторую, тоже о большевиках, в ней, между прочим, написал:
«Государство Российское делилось на «мы» и «они». Мы царствующие, они подчиненные, мы барствующие, они, крестьяне, рабствующие. Вот источник всех ужасов и несчастий. Однако вековая страшная туча рассеялась, ярко засияло солнце, пробудились творческие силы страны, и всем будто стало тепло и хорошо. Увы! Ненадолго.
Снова начали собираться грозные тучи, снова Россия погрузилась во мрак, снова стали «мы» и «они». «Мы» с дьявольским наслаждением уничтожающие все лучшее, созданное веками, «они» ограбленные, истерзанные, изнасилованные. «Мы» большевики, царствующие и живущие во дворцах, «они», лучшие силы народа, снова в тюрьмах, в изгнании.
И тогда нужно было доказывать, что крестьянин – царский верноподданный, и теперь повторяется ложь, теперь уже не царскими приверженцами, а большевиками. Крестьянин их верноподданный.
Всех крестьян России, по культурному и материальному состоянию, можно разделить на две категории: крестьяне-хуторяне и крестьяне-общинники.
Кто знаком с Россией и наблюдал за этими видами хозяйства, не мог не заметить резкой разницы между хуторянином и общинником. Первый энергичный, зажиточный, более культурный, второй менее энергичный, в большинстве случаев бедный, часто голодный, словом, несчастное существо. Я знаю вдоль и поперек Балтийский край, где крестьяне только хуторяне, я знаю хутора латышских и малороссийских колонистов в разных частях страны, знаю также хозяйство крестьянина-общин-ника.
Я межевал крестьянские земли на Урале, в Самарской губернии и делил их общины на хутора. Наблюдал за жизнью хуторянина и общинника, живущих рядом, с равным количеством земли одинакового качества и вынес глубокое убеждение, что несчастье России – страдания русского крестьянина в большей мере зависели от формы хозяйства. Россию губила община.
Крестьяне Балтийского края, латыши и эсты, несравненно раньше были освобождены от крепостничества, нежели крестьяне остальной части России. И те и другие были общинники. Но балтийские крестьяне скоро убедились, что постоянное несогласие в общине, вечные споры и прочее губят энергию и предприимчивость, нищета здесь вечный спутник, и уже около 60-х годов начали делиться между собой, покупать новые земельные участки у помещиков не общиной, а отдельными единицами. Балтийский край достиг такого высокого культурного уровня благодаря хуторскому хозяйству. Старики крестьяне с любовью теперь вспоминают тех мудрых пионеров, которые положили основу хуторскому хозяйству. Действительно, трудно найти во всей России такие цветущие, хотя и бедные по природе поля и луга, как в Балтийском крае. Частная инициатива и предприимчивость, не связанная с общиной, сотворили чудо. Теперь у балтийского крестьянина одно желание, одна мечта, которая звучит как молитва: «Мой уголок, мой кусочек земли, здесь я стою и отсюда я начну строить мое и моего потомка будущее».
В остальной России дело обстояло по-другому. Обширны были девственные поля, мало населена страна. Сколько земли хотел крестьянин, столько и брал. Границы определялись по полету птиц или «куда соха, коса и топор ходили». И воспел он в своих песнях землю-кормилицу, как мать родную, как Божий дар. Это была религия старого крестьянина. Община, образовавшаяся хотя и под различными видами, уже в раннюю эпоху истории России, не в результате экономического прогресса, а совершенно по другим причинам, продолжала свое существование, но постепенно поработила крестьянина и отняла у него землю. Земля Божья, народа, общества, но только не его, в этом весь трагизм крестьянина. «Сход», которым часто управляла водка, решал все дела, уничтожал энергию и предприимчивость крестьянина. Полагаясь на Бога и капризную мать-природу, «мучился» русский крестьянин на земле.
Наконец старое правительство осознало, что надо улучшить материальное положение крестьян, и в результате этого была проведена большая реформа в крестьянском землеустройстве.
Большевики обрушились на правительство, ибо видели в этой реформе опасность для их безжизненных теорий, опасались, что крестьянину привьется правильное понятие о собственности и он скорее увидит результаты своей работы и, таким образом, почувствует некоторую самостоятельность и перестанет быть слепым орудием в их руках. Устраивались крестьянские восстания, чтобы провалить эту реформу, писалось и доказывалось, что правительство сознательно разрушает крестьян и т. д.
Во многом большевики оказались правы, кое-где на местах руководители землеустроительных работ были людьми с чисто чиновническими взглядами, без знаний и опыта. Не реформа виновата, а ее бездарные руководители. Но, как ни старались они прививать крестьянам свои голодные теории, с годами они все больше и больше осознавали, что надо стать более неприкосновенными и уверенными в завтрашнем дне. Крестьянство стало делиться на отдельные хутора и перед войной целыми деревнями обращалось в правительственные учреждения с просьбой их размежевать.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: