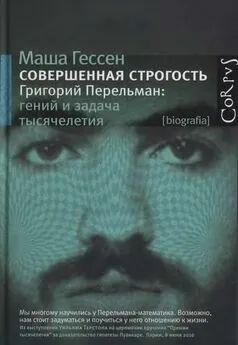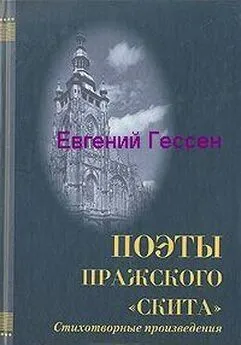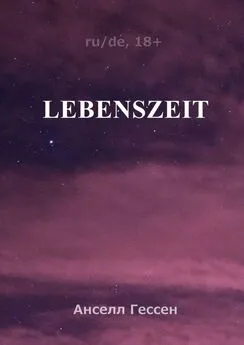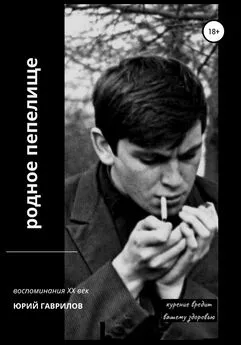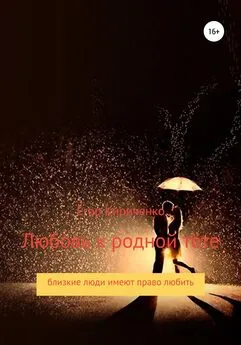Арнольд Гессен - «Любовь к родному пепелищу…» Этюды о Пушкине
- Название:«Любовь к родному пепелищу…» Этюды о Пушкине
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Алгоритм»1d6de804-4e60-11e1-aac2-5924aae99221
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-906789-74-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Арнольд Гессен - «Любовь к родному пепелищу…» Этюды о Пушкине краткое содержание
Седьмая книга Пушкинианы Арнольда Гессена представляет собой систематизированный сборник статей автора, опубликованных в различных газетах и журналах в период с 1958 по 1974 годы. В первую часть книги включены автобиографические очерки, кратко освещающие нелегкую жизнь и долголетнюю деятельность замечательного писателя-пушкиниста и патриота России.
Вторая часть книги – это сборник этюдов о жизни и творчестве А. С. Пушкина, по своему содержанию близкий к таким ранее изданным книгам, как «Набережная Мойки, 12. Последняя квартира А. С. Пушкина» (М., «Детская литература», 1960) и «Рифма, звучная подруга…» (М., «Наука», 1973).
Ранее в книге «„Слово о полку Игореве“ – подделка тысячелетия» А. Костиным выдвигалась гипотеза, что А. Гессен был причастен к передаче в ХХ век тайны первородства «Слова о полку Игореве». Проанализировав содержание книг и статей известного пушкиниста, а также глубоко изучив жизнедеятельность «клана Гессенов», исследователь приводит убедительные доказательства, что А. Гессен знал, кто написал «Слово о полку Игореве», и на склоне лет практически открыто назвал его имя…
«Любовь к родному пепелищу…» Этюды о Пушкине - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
На одном из стендов выставки я увидел томик избранных произведений Александра Блока… Мне вспомнился мой первый день в Петербургском университете, в сентябре 1898 года.
По обычаю того времени, я уже на другой день после окончания гимназии облачился в серую студенческую форменную тужурку с голубыми петлицами и темно-зеленую фуражку с таким же голубым околышем.
В этом студенческом обличье я прямо с вокзала отправился в университет и смело вошел в одну из аудиторий университета. Лекцию читал очень известный впоследствии ученый-гистолог Александр Станиславович Догель.
Помню слово в слово, как начал он свою лекцию:
– Господа студенты! Сегодня вы начинаете новую главу вашей жизни. Помните, что жизненный путь усеян не одними розами, на нем встречаются и шипы…
Это было наивно и сентиментально – так люди мыслили еще в те далекие мирные годы конца прошлого столетия, – но мне, юнцу, слова эти показались значительными: я даже записал их тогда… Сегодня, через семьдесят лет, я сказал бы иначе:
– Жизненный путь усеян не одними шипами, на нем встречаются иногда и розы…
Час прошел быстро. Влекомый шумным студенческим потоком по огромному, почти полукилометровому университетскому коридору бывшего здания двенадцати петровских коллегий, я направился из аудитории главного здания в амфитеатр Химического института университета. Студенты всех факультетов заполнили его в то утро. Было молодо и шумно. Но общее волнение достигло крайнего напряжения, когда из маленькой двери, над которой во всю стену была начертана периодическая система химических элементов, вышел ее создатель, Дмитрий Иванович Менделеев…
Это была неожиданная встреча с гением… Раздались аплодисменты… Дмитрий Иванович жестом руки остановил их… Меня поразило, что гений был небольшого роста, в обыкновенном форменном вицмундире с золотыми пуговицами…
Производила впечатление его большая, ниспадавшая на плечи львиная грива седых волос, сливавшаяся с седой бородой. И необыкновенно мудрые, молодо смотревшие глаза…
Рядом со мною сидел в то утро студент, невольно обращавший на себя внимание своим необычным, строгим классическим римским профилем.
Мы еще не знали, кто он, но скоро читали его первые стихи: «Муза в уборе весны постучалась к поэту», а после Кровавого воскресенья 9 января 1905 года уже вся передовая Россия читала его стихи и поэмы, в которых отражался отблеск грядущей революции:
Испепеляющие годы!
Безумья ль в нас, надежды ль весть?
От дней войны, от дней свободы —
Кровавый отсвет в лицах есть.
И позже, накануне Великого Октября:
И черная, земная кровь
Сулит нам, раздувая вены,
Все разрушая рубежи,
Неслыханные перемены,
Невиданные мятежи…
Этот юный студент был будущий поэт Александр Блок, поступивший в Петербургский университет в том же 1898 году, что и я, и так рано, – я хорошо помню этот печальный августовский день 1921 года, – ушедший из жизни… В нашем доме бывала в двадцатых годах жена Блока – Любовь Дмитриевна, дочь Д. И. Менделеева. Читала поэму «Двенадцать» так, как учил ее муж…
Среди нас находился и поступивший тогда в университет студент Павел Елисеевич Щеголев, будущий замечательный пушкинист, автор классического труда «Дуэль и смерть Пушкина»… Так началось то чудесное утро, первое утро моего большого путешествия в новый век, в новый мир, в новую эпоху человечества.
Позже мне приходилось часто встречаться и беседовать с П. Е. Щеголевым. Дружеские отношения связывали меня и с другим замечательным пушкинистом начала веха, Николаем Осиповичем Лернером…
Незадолго до Международной книжной выставки в печати отмечалось столетие со дня рождения известного дореволюционного издателя И. Д. Сытина. Я работал в издававшейся им газете «Русское слово» и на посвященных ему вечерах в Центральном доме литераторов, и у журналистов делился воспоминаниями о встречах с ним.
Среди книг я увидел прекрасно изданную Государственным издательством политической литературы книгу о Сытине, и воскресли в памяти его рассказы о том, как он пришел из деревни в Москву искать счастья. Здесь он создал крупнейшее в тогдашней России издательство, выпускал популярнейшую в то время газету, ему принадлежала нынешняя Первая образцовая московская типография, в которой работало три тысячи человек.
Особенно ярко запомнилась мне одна встреча с этим удивительным русским самородком. Это было в 1909 году.
Я жил тогда в Петербурге. Из петербургского отделения «Русского слова» раздался звонок:
– Арнольд Ильич, приехал Иван Дмитриевич… Просит вас зайти сейчас.
Сытин встретил меня приветливо, полувопросом, полуимперативом:
– Ну что же, поедем в Константинополь… Там началась младотурецкая революция… Выехать нужно завтра…
Государственная дума, где я работал постоянным специальным корреспондентом, была распущена на каникулы, такая поездка улыбалась мне, и я дал согласие.
– У вас есть наличные деньги? – обратился Сытин к заведывавшему отделением. – Нет?
Он вынул из кармана крупную сумму денег и передал мне:
– Вот вам на дорогу. Нужно будет еще, телеграфируйте, вышлем.
На другой же день я выехал в Одессу, оттуда морем. На пароходе оказался попутчик, корреспондент «Одесских новостей».
Остановка в Афинах, и мы в Константинополе. Столица Турции бурлила. Ощущалось жаркое дыхание революции. Была пятница, день селямлика. Восставший народ валом валил в Илтдыз-киоск, в парк, окружавший дворец, где обитал последний султан Турции Абдул-Гамид, вошедший в историю под именем Кровавого.
Наняли парный экипаж и влились в этот бурный поток. На мосту через Золотой Рог вытянувшиеся цепочкой солдаты неожиданно остановили нас, получили установленную за переезд через мост плату, и мы продолжили путь.
На площади перед дворцом войсковые части готовились к параду. Предстоял торжественный выезд султана из дворца в находившуюся неподалеку мечеть. Перед войсками гарцевал на белом коне Энвер-бей, возглавивший младотурецкое восстание.
Мы послали ему наши визитные карточки. Он подъехал к нам и, обращаясь по-французски, пригласил занять места в дипломатической ложе. Сопровождавшему его офицеру предложил доводить нас.
Вскоре начался выезд султана. В тот день народ впервые за десятилетия увидел его. Мне хорошо запомнилось зловещее мрачное лицо Абдул-Гамида, в красной феске на голове, с большой аккуратно подстриженной крашеной черной бородой.
Первую открытую карету пышного выезда занимал султан с молодой женой и наследником. Министры в красных фесках и мундирах, при орденах, бежали рядом с каретой, от времени до времени прикасаясь к ее покрытым пылью колесам, символически – праху следов падишаха.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: