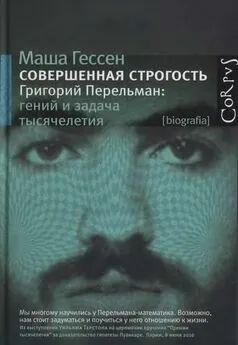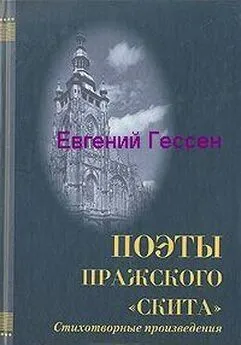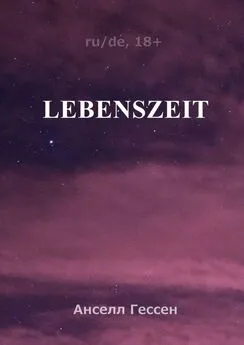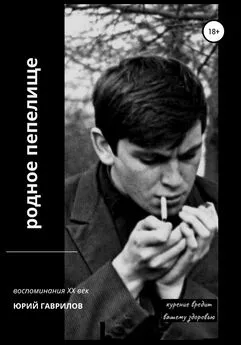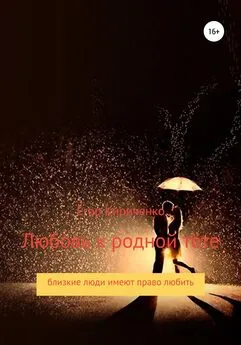Арнольд Гессен - «Любовь к родному пепелищу…» Этюды о Пушкине
- Название:«Любовь к родному пепелищу…» Этюды о Пушкине
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Алгоритм»1d6de804-4e60-11e1-aac2-5924aae99221
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-906789-74-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Арнольд Гессен - «Любовь к родному пепелищу…» Этюды о Пушкине краткое содержание
Седьмая книга Пушкинианы Арнольда Гессена представляет собой систематизированный сборник статей автора, опубликованных в различных газетах и журналах в период с 1958 по 1974 годы. В первую часть книги включены автобиографические очерки, кратко освещающие нелегкую жизнь и долголетнюю деятельность замечательного писателя-пушкиниста и патриота России.
Вторая часть книги – это сборник этюдов о жизни и творчестве А. С. Пушкина, по своему содержанию близкий к таким ранее изданным книгам, как «Набережная Мойки, 12. Последняя квартира А. С. Пушкина» (М., «Детская литература», 1960) и «Рифма, звучная подруга…» (М., «Наука», 1973).
Ранее в книге «„Слово о полку Игореве“ – подделка тысячелетия» А. Костиным выдвигалась гипотеза, что А. Гессен был причастен к передаче в ХХ век тайны первородства «Слова о полку Игореве». Проанализировав содержание книг и статей известного пушкиниста, а также глубоко изучив жизнедеятельность «клана Гессенов», исследователь приводит убедительные доказательства, что А. Гессен знал, кто написал «Слово о полку Игореве», и на склоне лет практически открыто назвал его имя…
«Любовь к родному пепелищу…» Этюды о Пушкине - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В тяжких и суровых условиях каторги две молодые женщины начали налаживать свою новую жизнь.
Трубецкая привезла с собой поваренную книгу. Обе женщины первый раз в жизни готовили и отправляли в тюрьму супы и кашу.
С их приездом наладилась и постоянная связь декабристов с родными. Сами они не имели права писать писем, и это делали за них женщины.
Дважды в неделю, в присутствии охраны, Трубецкая и Волконская имели право посещать в тюрьме своих мужей. Эти дни были для декабристов праздниками.
Дальнейшая отправка декабристов в Нерчинские рудники была приостановлена. Николай I считал опасным расселять декабристов по всей необъятной Сибири и решил всех их сосредоточить в каком-нибудь одном надежном месте. Начали отправлять декабристов в Читинский острог.
Уже не в Нерчинские рудники, а в Читу выехала после Волконской Александра Григорьевна Муравьева, дочь виднейшего царского сановника графа Г. И. Чернышева, жена декабриста Н. М. Муравьева.
Это была обаятельная женщина, романтически настроенная, хрупкая, нежная, идеальный образец жены и подруги революционера-изгнанника. Декабристы называли ее «незабвенной спутницей нашего изгнания» и в своих записках и письмах всегда тепло и задушевно вспоминали ее.
Дома, у бабушки, Екатерины Федоровны Муравьевой, она оставила троих детей – Николай I не разрешил взять их с собой.
Муравьева поселилась в небольшом домике против острога, откуда могла наблюдать тюремную жизнь мужа и декабристов, среди которых находился и ее брат, граф З. Г. Чернышев.
Она привезла с собой переданное ей Пушкиным послание декабристам «Во глубине, сибирских руд…». В многочисленных списках оно быстро распространилось среди них.
Вслед за Муравьевой в Читу прибыли из Нерчинских рудников Трубецкая и Волконская вместе с находившимися там восемью декабристами, и сюда же, одна за другой, приехали жены декабристов Наталья Дмитриевна Фонвизина и Александра Ивановна Давыдова.
Фонвизина была дочерью костромского помещика Д. А. Апухтина. В их доме часто бывал ее двоюродный дядя, генерал-майор М. А. Фонвизин, племянник знаменитого автора «Недоросля». Он увлеченно рассказывал о героических походах русской армии в борьбе с Наполеоном, о битве под Аустерлицем, о своей встрече с Александром I и французским королем Людовиком.
Девушка вышла за него замуж. Они поселились в подмосковной усадьбе. Однажды вьюжным декабрьским вечером к их дому подъехала тройка и мужа увезли.
Больших хлопот стоило Фонвизиной получить разрешение последовать за мужем. У них уже было двое детей, но царь не разрешил их взять с собой.
Фонвизиной пришлось оставить детей на попечении бабушки и брата мужа.
– Как птица, вырвавшаяся из клетки, – говорила она, – полечу я к моему возлюбленному делить с ним бедствия и всякие скорби и соединиться с ним снова на жизнь и смерть!..
Давыдова приехала к мужу в начале 1828 года из Каменки – своего, рода «столицы» южных декабристов. Здесь, у ее мужа Василия Львовича Давыдова, бывали многие члены Южного тайного общества.
В Каменке бывал и Пушкин, приезжавший сюда вместе с отцом М. Н. Волконской, генералом Н. Н. Раевским, который приходился Давыдову братом по матери.
Многих бывавших в Каменке декабристов Давыдова знала лично и встретилась с ними в Чите.
Уезжая, Давыдова оставила в Каменке на попечении бабушки своих шестерых детей – трех мальчиков и трех девочек.
Почти одновременно приехали в Читу Елизавета Петровна Нарышкина и Александра Васильевна Ентальцева.
Нарышкина была единственной дочерью известного героя 1812 года графа П. П. Коновницына. Она получила прекрасное образование, была умна, остроумна, добра, но характера довольно замкнутого. Несмотря на большую близость жен декабристов между собой, Нарышкина чувствовала себя несколько одинокой.
Ей было 26 лет, ее единственная дочь скончалась в Москве еще до осуждения мужа. Перед отъездом к мужу она говорила матери, что поездка эта необходима для ее счастья, что она обретет в ней душевный покой. Мать тепло и сердечно проводила ее.
Нарышкина въезжала в Читу в мае 1827 года. Уже издали она приметила окруженную частоколом Читинскую тюрьму, а вскоре через щель увидела своего мужа Н. Н. Нарышкина. Это было слишком неожиданно. Нарышкина громко позвала его. Он узнал голос жены и, гремя кандалами, подбежал к частоколу. Незнакомый тюремный облик мужа, обстановка, в какой она увидела его через год после свидания в Петропавловской крепости, настолько потрясла молодую женщину, что она потеряла сознание. Ее привели в чувство и после короткой встречи с мужем направили к Муравьевой…
Особенно тяжело сложилась в Сибири жизнь Ентальцевой. Отбыв срок каторги, ее муж, подполковник А. В. Ентальцев, был отправлен на поселение в Березов, где заболел тяжелой и длительной душевной болезнью. Верная своему долгу, Ентальцева не оставляла больного, терпеливо ухаживала за ним.
В 1845 году Ентальцева овдовела и попросила Бенкендорфа разрешить ей вернуться на родину, но получила отказ. Она очень нуждалась, жены декабристов помогали ей. Вернуться же на родину ей разрешено было лишь через одиннадцать лет, в 1856 году, после амнистии. Через два года она скончалась в Москве.
Среди жен декабристов оказалась в Чите и юная француженка Полина Гебль, приехавшая на каторгу разделить участь декабриста И. А. Анненкова.
В Москву она приехала в качестве старшей продавщицы большого модного магазина на Кузнецком мосту, здесь встретилась со своим будущим мужем и после его ареста лично обратилась к Николаю I с просьбой разрешить последовать за ним в Сибирь. 5 апреля 1828 года в сохранившейся до наших дней Читинской церкви состоялось ее венчание с Анненковым.
Это было необычное венчание. Комендант острога генерал Лепарский послал за Полиной Гебль свой экипаж, и когда, она подъехала с Фонвизиной к церкви, встретил ее и помог выйти из экипажа.
Оживленное настроение собравшихся исчезло, когда в церковь привели в кандалах Анненкова и двух шаферов. У входа кандалы сняли, но после совершения обряда их снова надели и всех увели обратно в острог.
Дамы проводили Полину Гебль, теперь уже Прасковью Егоровну Анненкову, в ее маленькую квартиру, а через некоторое время плац-адъютант привел туда и Анненкова. Ему разрешено было пробыть с женой среди друзей не более получаса.
Жених и шаферы в кандалах, невеста-француженка, едва понимавшая по-русски, ее подруги – знатнейшие титулованные дамы Петербурга, коляска коменданта острога, неподалеку тюремный частокол и рядом солдаты с винтовками за плечами – вся эта необычная обстановка произвела на собравшихся тягостное впечатление.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: