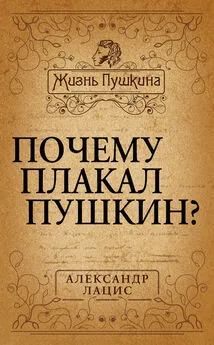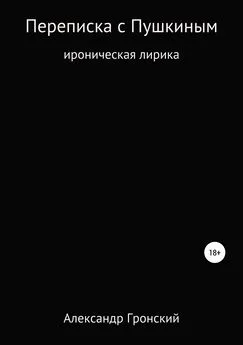Александр Лацис - Почему плакал Пушкин?
- Название:Почему плакал Пушкин?
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ЛитагентАлгоритм1d6de804-4e60-11e1-aac2-5924aae99221
- Год:2013
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4438-0408-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Лацис - Почему плакал Пушкин? краткое содержание
Лоббист во многом парадоксальных догадок в исследовании жизни и творчества А. С. Пушкина, Александр Лацис (1914–1999) принадлежит к клану неопушкинистов. Он впервые обнародовал гипотезу о родстве Пушкина и Троцкого, занимал антиершовскую позицию по поводу авторства знаменитой сказки «Конек-горбунок», а также внедрял версию о том, что дуэль поэта с Дантесом на самом деле была самоубийством.
В настоящей книге в увлекательной форме развернут поиск явного Пушкина, раскрываются «темные места» пушкинских текстов, выявляются новые факты и эпизоды из жизни поэта, затененные раньше, как и черты пушкинского характера.
Почему плакал Пушкин? - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Сравним строки, извлеченные из первого издания и тот же фрагмент, как он печатается ныне. Читатели угадают без труда – где пушкинский текст, а где «исправление».
Мужички такой печали Мужички такой печали
От рожденья не видали; Отродяся не видали;
Стали думать да гадать Стали думать да гадать –
Как бы вора им поймать. Как бы вора соглядать:
И решили всенародно Наконец себе смекнули,
С ночи той поочередно Чтоб стоять на карауле,
Полосу свою беречь, Хлеб ночами поберечь,
Злого вора подстеречь Злого вора подстеречь.
Возможно, и сегодня не всем по душе оборот «решили всенародно». Найдутся те, кто «себе смекнули, чтоб стоять», и примутся уверять, что переработка обнаруживает «еще большее мастерство». Они укажут на сибирские речения, которые вряд ли могли быть известны Пушкину. Неуклюжие выражения, сдвиги ударений они объяснят стремлением приблизить «изложение к народно-разговорной речи».
Немало странного, косноязычного и чуждого грамоте вписано в позднейшие издания. Не было у Пушкина «Принесли с естным лукошко», «Уши в загреби берет», «Побегай в дозор, Ванюша», «Кобылица молодая, Очью бешено сверкая…».
А что было? Простота и точность. «Кобылица молодая, Задом, передом брыкая…», «Взяли хлеба из лукошка», «Крепко за уши берет», «Ты поди в дозор, Ванюша».
У Пушкина конек разговаривает по-человечьи. Ну, а в четвертом издании подсыпано реализма: вместо «Тут конек его прервал» читаем «Тут конек ему заржал».
«Чудо разом хмель посбило», «Натянувшись зельно пьян», «Некорыстный наш живот», «Починивши оба глаза, Потирая здесь и там», «Кто-петь знает, что горит», «переться» и «с сердцов» – все это ершовизмы, плоды сплошной ершовизации.
Приведем тот отрывок, который был особо похвален в сопроводительной заметке «Библиотеки для чтения»:
В той столице был обычай,
Коль не скажет городничий, –
Ничего не покупать,
Ничего не продавать.
Вот ворота отворяют,
Городничий выезжает,
В туфлях, в шапке меховой,
С сотней стражи городской.
Рядом едет с ним брадатый,
Называемый глашатай;
Он в злату трубу трубит,
Громким голосом кричит:
«Гости! Лавки отворяйте,
Покупайте, продавайте;
Надзирателям – сидеть
Подле лавок и смотреть,
Чтобы не было содому,
Ни смятенья, ни погрому.
И чтобы купецкой род
Не обманывал народ!»
Отрывок хорош? Однако в нем есть неблагонадежное слово «смятенье». И не усмотрит ли тут цензура обиду для всех купцов, для всего купеческого сословия? Видимо, во избежание подобной опасности Ершов подменил последние строки:
Ни давежа, ни погрому,
И чтобы никой урод
Не обманывал народ!
Есть и в первопечатном тексте слова и сочетания малоупотребительные, старинные. Но вот что примечательно: «дозорные» и «караульные» в бесспорно пушкинских произведениях встречаются единственный раз. В повести «Дубровский», на одной и той же странице, в XIX главе.
Соседствуют они и в сказке. Что же было написано раньше?
XIX глава – заключительная, она помечена началом февраля 1833 года. Если верно, что сказка датируется 1834 годом, значит, оба слова извлечены из повести. При жизни Пушкина повесть не печаталась. Остается предположить, что автор сказки и повести – одно и то же лицо.
Начиная с первого издания «Конька», то есть в пушкинском тексте, читаем: «Как пущусь да побегу, Так и беса настигу».
Столь необычное ударение – не ошибка, не произвол, а свидетельство: автору, то есть Пушкину, запомнилось далеко не всем известное произведение сатирической поэзии XVIII века.
Такое ударение, и ту же рифму применил в 1766 году Василий Иванович Майков в «Нравоучительных баснях». У Пушкина имелось выпущенное в старинном кожаном переплете издание 1809 года. В нем читаем:
И сам я побегу,
И господина настигу.
Один прилежный исследователь, стремясь отстоять творческую самобытность Ершова и, видимо, чувствуя нехватку доводов, вот до чего договорился: «Преодоление сибирских просторов на лошадях для жителей Зауралья было обыденным делом».
Простите, но Пушкин, хотя и не был жителем Зауралья, тоже немало верст верхом преодолел.
В письме к жене от 21 августа тридцать третьего года находим нечто вроде фактической справки:
«Из старых моих приятельниц нашел я одну белую кобылу, на которой я съездил в Малинники, но и та уж подо мною не пляшет, не бесится».
Не о том ли вскорости читаем в «Коньке»?
Кобылица молодая
Задом, передом брыкая,
Понеслася по полям,
По горам и по лесам;
То заскачет, то забьется,
То вдруг круто повернется,
Но дурак и сам не прост,
Крепко держится за хвост.
Вот что обещала Ивану укрощенная им «кобылица молодая»:
По исходе же трех дней
Двух рожу тебе коней…
Да еще рожу конька
Ростом только в три вершка…
Первых ты коней продай,
Но конька не отдавай.
Один из пушкинских рисунков с недавних пор сопровождают весьма произвольным определением: «Автопортрет в облике лошади».
Что ж, поучаствуем в полете фантазии и по поводу того же рисунка предложим иную, не менее неожиданную разгадку.
Справа – лошадь объезженная, в сбруе. Слева – еще три конские морды. Верхняя и нижняя – лошади, как лошади. А третья, та, которая между ними, на наш взгляд – вылитый конек-горбунок.
И если это – Пушкин, то в виде конька-горбунка!
Как понимать сей графический каламбур? Здесь запечатлен замысел будущей сказки? Или иллюстрация, автокомментарий? Или, наконец, тайнопись, свидетельство о подлинном авторстве? «Но конька не отдавай».
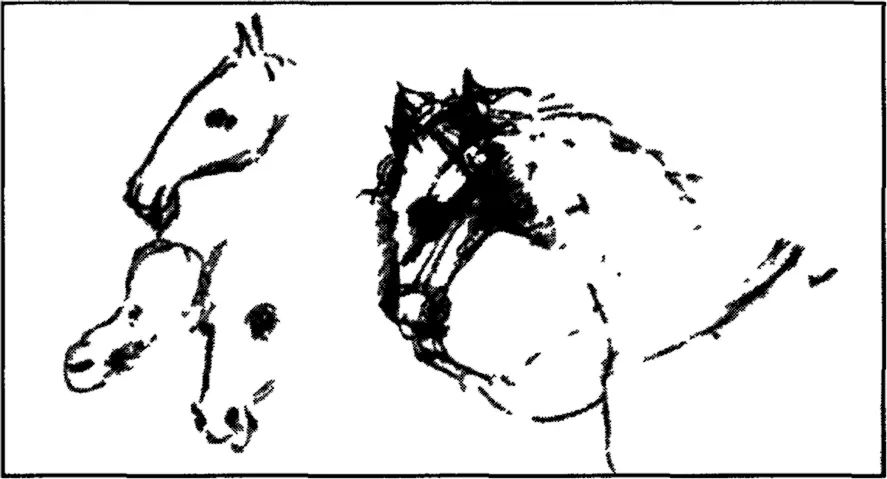
Обозначим одну из возможных причин сокрытия имени автора. В «Библиотеке для чтения», только не в апрельской, а в мартовской книжке, печаталась «Пиковая дама». Приходилось считаться с тем, что публика не в состоянии по достоинству оценить столь широкое творческое многообразие.
Полного объема свершений мы и сейчас не знаем и пребываем в убеждении, что болдинская осень – нечто из ряда вон выходящее. И только тогда, когда Пушкину вернут права на все им созданное, начнем привыкать к мысли, что болдинское изобилие было скорее правилом, чем исключением.
Смею полагать, что немалое число читателей, не особенно вникая в цепочки догадок, что называется, нутром чувствуют: сказка пушкинская. Им достаточно сослаться хотя бы на виртуозную игру слов:
Наш отец-старик неможет.
Работа́ть совсем не может.
Зарубежный литературный критик Сергей Лесной по справедливости восхвалил «Конька» в парижском журнале «Возрождение» (1964, № 153):
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: