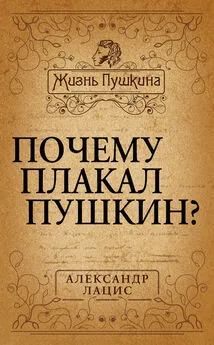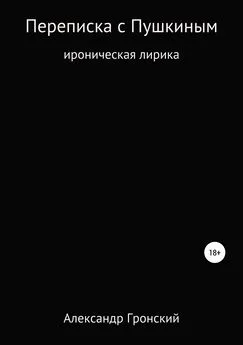Александр Лацис - Почему плакал Пушкин?
- Название:Почему плакал Пушкин?
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ЛитагентАлгоритм1d6de804-4e60-11e1-aac2-5924aae99221
- Год:2013
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4438-0408-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Лацис - Почему плакал Пушкин? краткое содержание
Лоббист во многом парадоксальных догадок в исследовании жизни и творчества А. С. Пушкина, Александр Лацис (1914–1999) принадлежит к клану неопушкинистов. Он впервые обнародовал гипотезу о родстве Пушкина и Троцкого, занимал антиершовскую позицию по поводу авторства знаменитой сказки «Конек-горбунок», а также внедрял версию о том, что дуэль поэта с Дантесом на самом деле была самоубийством.
В настоящей книге в увлекательной форме развернут поиск явного Пушкина, раскрываются «темные места» пушкинских текстов, выявляются новые факты и эпизоды из жизни поэта, затененные раньше, как и черты пушкинского характера.
Почему плакал Пушкин? - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В конце 1826 года в Москве предполагалось печатание второй главы «Онегина». Обычный, рядовой цензор, – его фамилия, прошу запомнить, Снегирев, – вымарал шесть строк в одном месте, пять строк в другом.
Возникает вопрос: где ответная эпиграмма?
В Петербурге высочайший цензор, император Николай, мало того, что не дозволил к печати «Бориса Годунова», еще и глубокомысленно предложил переделать трагедию в исторический роман наподобие «Валтера Скота».
Где эпиграмма?
В следующем, 1827 году, тот же московский цензор…
Впрочем, разве поэт обязан откликаться на каждый удар судьбы по отдельности? Не лучше ли два-три сходных случая сплести воедино?
Типографщики не имели права принять для набора ни одного листка, не помеченного предварительной цензорской «скрепой». Но цензор не ставил на каждой страничке свою полную подпись. Он тянул через всю тетрадь какую-нибудь длинную фразу, один-два слога на страничку.
«Раз-сма-три-валъ-про-фессоръ-цензоръ-статский-советникъ-и-кавалеръ-Иванъ-Сне-гиревъ».
Привожу выдержки из дневника И. М. Снегирева.
1825, 28 июня. «Разговор был о вредном влиянии Пушкина стихов на нравственность юношества».
1825, 20 декабря. «Замечательно, что большая часть бунтовщиков Лицейские воспитанники».
Неудивительно, что в марте 1827 года «фессор» отказался пропустить в печать пушкинскую «Сцену из Фауста». Снегирев заявил неудовольствие тем, что ему к рассмотрению была представлена рукопись, содержащая «выражения, противные нравственности». И добавил, что «все основание» оного сочинения ему не нравится.
Мы привели не весь «список благодеяний» московского цензора. На его счету еще была попытка обкорнать «Графа Нулина». Короче говоря, Снегирев давно заслужил парочку эпиграмматических шлепков.
Не служит ли предвестником письмо Пушкина Погодину, сообщающее о том, что «Фауста» царь пропустил, кроме двух стихов?
«Скажите это от меня господину, который вопрошал нас, как мы смели представить пред очи его высокородия такие стихи! Покажите ему это письмо и попросите его высокородие от моего имени впредь быть учтивее и снисходительнее…. Если моск‹овская› цензура все-таки будет упрямиться, то напишите мне…»
Редкий случай, когда поэту удалось «фессора» осадить, поставить на место. Победа почти полная – за вычетом двух отхваченных строк.
И. М. Снегирев был первый живой, не заочный цензор, которого Пушкину привелось наблюдать в действии, при исполнении служебных обязанностей. Никогда прежде не доводилось Пушкину вступать в затруднительные личные объяснения. Эти хлопоты ранее падали на долю его издателей. Вот почему возможно предположить, что цензор Снегирев застрял в сознании поэта, как фигура в некотором роде символическая, как наглядное воплощение отвлеченного понятия…
У кого под рукой имеется справочное пособие Л. Черейского «Современники Пушкина» (Л. 1981), прошу обратить внимание на рисунок на стр. 154. Портретист-рисовальщик Н. Шохин подметил характерную черту Снегирева – сонное выражение его лица.
Обратимся к записям П. Вяземского о том, что Пушкин чинил расчет при помощи «вставных» эпиграмм: то в «Онегина» упрячет, то в послание…
Продолжим, договорим за князя Петра: то ещё куда-нибудь. Не удастся ли следы взысканий обнаружить в местах неожиданных?
Вчитаемся в стихотворение, посвященное картине художника.
В печатном тексте «Возрождения» – три строфы. Последняя из них – своего рода вуаль, накинутая, чтоб прикрыть остальное. Первые две строфы, если прочесть их отдельно, звучат обличительно.
Правда, в издании 1829 года поэт поместил эти стихи среди написанных в 1819 году, рядом с другим, которое называется «Недоконченная картина».
На первый взгляд, стихотворения 1819 года никак не могут являться откликом на события 1826–1827 годов.
В этой связи проверим то, что кажется бесспорным. Убеждаемся:
«Недоконченная картина» – действительно 1819 года.
А когда впервые напечатано «Возрождение»?
В 1828-м, в «Невском альманахе», дата цензурного разрешения – 9/XII 1827.
Какого времени автограф?
Его нет, он отсутствует, что характерно почти для всех стихотворений, помеченных «подставной» датой.
Однако насчет времени написания кое-что разъясняется, причем безо всякого нашего участия. В академическом научном сборнике, выпущенном в честь 80-летия Н. Ф. Бельчикова (М., 1971), помещено исследование, в котором приводятся такие соображения: в издании «Стихотворений» 1828 года «Возрождения» нет. А оно там непременно было бы, если бы в то время существовало. Ибо стихи эти столь высокого художественного уровня, что их отсутствие ничем иным объяснить невозможно. Кроме того, анализ словесной ткани также подтверждает, что стихи написаны «не ранее осени 1827 года»… Мы вправе пойти дальше и предположить, что отводящая дата «1819» играет роль защитного заслона. А само стремление позаботиться о заслоне наводит на мысль, что перед нами – замаскированная эпиграмма.
Перечитаем первые восемь строк. И обратим внимание на несколько, казалось бы, неожиданный эпитет в начальной строке.
Художник-варвар кистью сонной
Картину гения чернит.
И свой рисунок, беззаконной,
Над ней безсмысленно чертит.
Но краски чуждыя с летами
Спадают ветхой чешуей;
Созданье гения пред нами
Выходит с прежней красотой.
Очень может быть, что эта, сокрытая среди стихов элегических, отповедь является самостоятельной эпиграммой.
«Кистью сонной» картину гения чернит все тот же сонный Снегирев. А свой бессмысленный рисунок чертит его двойник, высочайший цензор.
Вряд ли Снегирев был главной и единственной мишенью. Возможно, что и он, в свою очередь, присутствует здесь в качестве прикрытия, за которым почти не виден истинный адресат.
Иначе не было бы нужды в столь тщательной маскировке. Притаившаяся стихотворная эпиграмма, удивительно точно названная поэтом «Возрождение», не оказалась ли она исполнена провидческой силы?
Не так ли сложилась судьба творческого наследия Пушкина? Не сразу, не вдруг, поколение за поколением, реставраторы-текстологи продолжают смывать чуждые краски…
Если Пушкин написал эпиграмму на двух цензоров, нижайшего, то есть Снегирева, и высочайшего, то есть Николая, если эпиграмма до того глубоко запрятана, что о содержании можно лишь строить догадки, – в таком случае, состоялось ли возмездие?
Имеет ли смысл отпор, о котором ни современники, ни потомки ничего толком не узнают?
Похоже, что подобные соображения принял во внимание… сам Пушкин, и решил кое-что договорить.
Да и как не договорить?
Стихотворение, таящее в себе эпиграмму, поэт включил в состав издания 1829 года. Тем временем пришлось снова брать на замету цензора Ивана Снегирева: он не пропустил в печать пушкинский фельетон «Отрывок из литературных летописей».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: