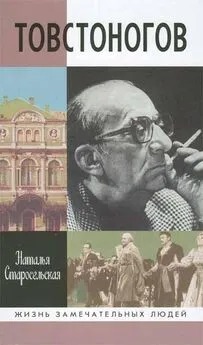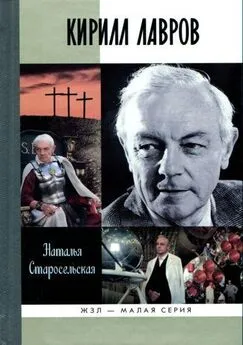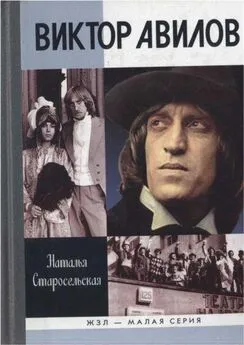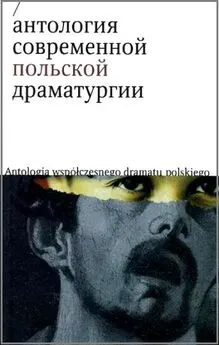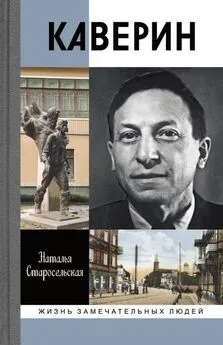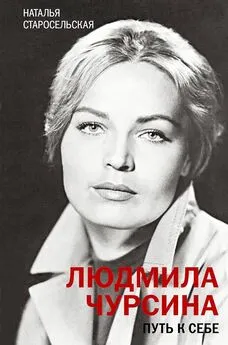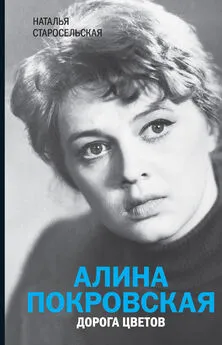Наталья Старосельская - Товстоногов
- Название:Товстоногов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:1004
- Город:Москва
- ISBN:ISBN 5-235-02680-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Наталья Старосельская - Товстоногов краткое содержание
Книга известного литературного и театрального критика Натальи Старосельской повествует о жизненном и творческом пути выдающегося русского советского театрального режиссера Георгия Александровича Товстоногова (1915–1989). Впервые его судьба прослеживается подробно и пристрастно, с самых первых лет интереса к театру, прихода в Тбилисский русский ТЮЗ, до последних дней жизни. 33 года творческая судьба Г. А. Товстоногова была связана с Ленинградским Большим драматическим театром им М. Горького. Сегодня БДТ носит его имя, храня уникальные традиции русского психологического театра, привитые коллективу великим режиссером. В этой книге также рассказывается о спектаклях и о замечательной плеяде артистов, любовно выпестованных Товстоноговым.
Товстоногов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
«Ирина сразу стала все отрицать, говорила с апломбом и весьма неточно. Я не услышала ссылок на пьесу и почувствовала недоброе. Когда она закончила, Г. А. спросил: “А вы пьесу читали?”, и я с ужасом слышу: “Я пьесу не читала, но…” — “А вот ваше но меня совершенно не интересует. И говорить с вами я дальше не буду”. В общем, не помню, что было дальше. Я чего-то вякала, пытаясь объяснить, что “я-то пьесу читала, но у меня есть претензии к макету”. Г. А. сказал что-то вроде “покиньте помещение”, и мы гордо ушли… При выходе из театра мы встретили Лотошева, он уже все знал, и лица на нем не было. Я уговорила Ирину, мы подписали акт и ушли. Я сказала Лотошеву: “Николай Михайлович, вы понимаете, что о моем завлитстве теперь и речи быть не может”. Он грустно покачал головой».
После ленинградского дебюта Георгия Александровича в газетах писали: «Уже сейчас не будет преждевременным утверждать, что в лице Товстоногова, впервые выступающего у нас в качестве постановщика, отряд ленинградских режиссеров пополнился мастером, умеющим работать с актерами, реалистически правдиво и глубоко раскрывать текст пьесы, ее идейное содержание». Так критик С. Осовцев выразил не только свое собственное мнение.
В ленинградском спектакле «Где-то в Сибири», судя по прессе, акценты не изменились. Но и абсолютным повторением московского он не был. И дело не только в другой сценографии, но и в новом актерском наполнении, которое нередко меняет смыслы. По-прежнему главным героем оставался Ваня Кочин. Здесь его играл Глеб Селянин, в ту пору студент режиссерского факультета Ленинградского театрального института. Этот исполнитель, как свидетельствуют рецензии на оба спектакля, внес свои краски в образ: он сделал акцент на ощущении обманутости, возникавшем у Вани Кочина оттого, что равнодушные окружающие не смогли рассмотреть, что этот парень способен на многое. Благодаря чему возникала иная атмосфера спектакля, иное наполнение характеров…
Но вернемся вновь к воспоминаниям Дины Шварц, которая по воле судьбы оказалась тем самым представителем Управления, который по правилам должен был пойти на генеральную репетицию и в пустом зале смотреть спектакль, чтобы доложить начальству, может ли он быть показан высокой комиссии.
«Г. А. я не видела, рядом со мной сидел Лотошев. Поднялся занавес. На сцене мои друзья-артисты — Глеб Селянин, Галя Дунаева, Лайма Сальдау, Нина Родионова, Инна Слободская, Зина Антонова и другие. Но что с ними? Откуда такая легкость, раскованность, откуда атмосфера правды быта и в то же время романтики юных и неунывающих людей? Я такого в нашем городе не видела. Я забыла, что сижу в пустом зале, смеялась и плакала. Я видела то, о чем мечтала всегда в институте — о вахтанговском духе. И здесь это было. Я ушла из театра, так и не увидев режиссера, восторг высказала Лотошеву и всем в Управлении. Очень жалела о том, что так неудачно сложились отношения с Товстоноговым, я бы пошла к нему в завлиты, не задумываясь. К этому времени он дал согласие быть главным. И каково было мое удивление, когда на другой день к моему начальнику пришли Товстоногов и Лотошев просить меня в завлиты. Они беседовали без меня, мне об этом сказал после их ухода Ю. С. Юрский (отец Сергея Юрского. — Н. С. ). Я сказала, что счастлива и немедленно ухожу…
Первое время я не знала, что делать, стеснялась и Товстоногова, и артистов, на репетиции не ходила. Потом я спрашивала Г. А., как случилось, что после всего он решился пригласить в завлиты именно меня, когда у него было пятеро желающих и знакомых. Он сказал, что во время репетиции следил за мной из ложи, и я идеально реагировала на все: так, как он хотел, и нестандартно. Так определилась моя судьба на всю жизнь».
Позже Дина Морисовна говорила об этой работе режиссера: «Спектакль о ремесленном училище был поставлен так, как будто Георгий Александрович несколько лет провел в этом училище. На самом деле он понятия не имел о реальной жизни этого училища. Но его интуиция художника сделала правдивой всю эту историю…
Вот тут я поняла, что если этот человек меня пригласит работать с ним, то я буду, потому что это был идеал режиссуры, моя театроведческая мечта, там были юмор и патетика, правда жизни, вахтанговское начало и мхатовское соединялись».
В спектакле «Где-то в Сибире» молодой театровед Дина Шварц увидела и оценила, может быть, главное в таланте Георгия Александровича: умение соединить глубокий психологизм мхатовского начала и яркую зрелищность вахтанговской театральной школы.
После успеха первой постановки случилось то, чего Товстоногов давно ждал — он почувствовал почву под ногами. Он оказался там, где суждено было строить свой театр и свой дом.
Первое время пришлось жить в общежитии, но это было уже какое-то подобие стабильности, у Георгия появилась постоянная работа и вместе с ней надежды на устроенный со временем быт. Тамара Григорьевна решила, что семья должна соединиться. Сама она наотрез отказалась уезжать из Тбилиси — и сегодня, когда ее давно уже нет на свете, Натела Александровна считает: мать не хотела покидать свой дом, потому что в глубине души продолжала верить в возвращение мужа. Она ждала Александра Андреевича. Пусть больного, немощного, исстрадавшегося, искалеченного морально и физически, но — живого. Ведь говорил же Хурденко Нателе, что сделал все возможное!..
Все возможное…
Додо с мальчиками отправилась в Ленинград. Она в это время училась в Медицинском институте в Москве. Пришлось переводиться на заочный, оставлять свое «мужское семейство» больше чем два раза в год, во время сессий, она уже не могла. Матери рядом не было, все заботы легли на ее плечи.
Устроились в общежитии.
Вскоре у Товстоноговых появился сосед — Георгий пригласил в свой театр Евгения Лебедева.
По воспоминаниям Анатолия Гребнева, они случайно встретились на бирже в Москве: «Летом… 1949-го я узнал от Евгения Лебедева, что Гога получил театр в Ленинграде. Женя Лебедев, тогда еще Женя, встретил его в Москве на актерской бирже. Сам он только что покинул Тбилиси, и тоже по личным обстоятельствам; приехал в Москву в поисках работы — и вот встретил на бирже Гогу. Тот с места в карьер пригласил его с собой в Ленинград, на роль Сталина в спектакле “Из искры”, который собирался ставить».
Об этой поре их жизни со слов Нателы Александровны пишет Рудольф Фурманов: «Георгий Александрович был абсолютно беспомощным в быту, и Евгений Алексеевич очень помогал Додо управляться с мальчиками и по хозяйству. Беспечная пятнадцатилетняя девчонка, которую он помнил по Тбилиси, стала серьезной “матерью семейства”. Она должна была воспитывать двух малышей, успевать приготовить, убрать, накормить, и еще выучить “свои кости”, как она называла медицинские учебники… А ведь, в сущности, она была совсем девчонкой! И была достаточно непрактичной, как и ее брат. Обмануть их ничего не стоило…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: