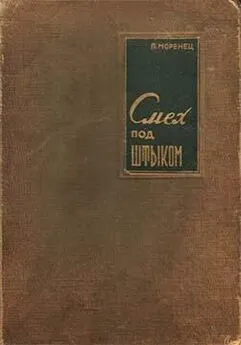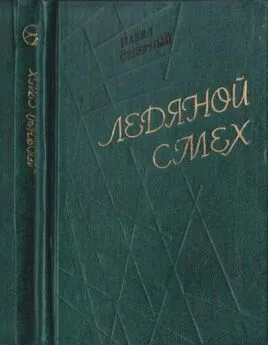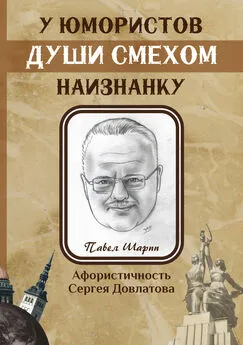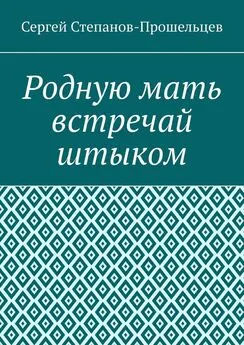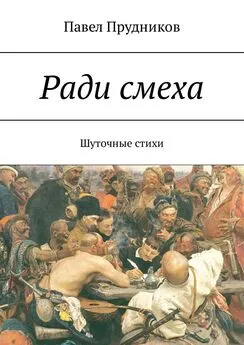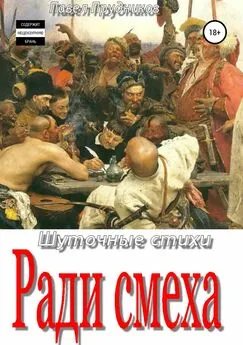Павел Моренец - Смех под штыком
- Название:Смех под штыком
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Азово-Черноморское краевое книгоиздательство
- Год:1934
- Город:Ростов-на-Дону
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Павел Моренец - Смех под штыком краткое содержание
Автобиографический роман, автор которого Павел Михайлович Моренец (Маренец) (1897–1941?) рассказывает об истории ростовского подполья и красно-зеленого движения во время Гражданской войны на Дону и Причерноморье.
Смех под штыком - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Посидела так недели две, тут Рыжик приступил к допросам. Что она могла сказать, живя в стане врага, в своей семье, пожилая женщина? Да и Рыжик это прекрасно знал.
Не допросы ему нужны были. Ему нужно было крови! Жертвы! Мести!..
Сперва она возвращалась в камеру, ложилась на нары, плакала, жаловалась. Потом с каждым днем становилась все более странной. Приходила в горячем состоянии, громко и бойко разговаривала, хвастливо рассказывала о том, что ее на расстрел водили, избивали; потом остервенело рвала, распускала густые, темные пряди волос, закрывавшие ей грудь и спину, и страшная, как смерть, как черная бездна, начинала выть, хохотать, плясать…
Бабы схватывали ее, укладывали на постель, обкладывали ее голову мокрыми полотенцами, а она вырывалась, кому-то грозила или в ужасе схватывалась, впивалась страшными безумными глазами в черную пустоту, — и дикий крик вырывался из ее груди: — «Он! Он!» — и шептала беззвучно, бессвязно…
Потом слабела, забывалась, будто засыпала, а ночами снова просыпалась и плакала, обильно смачивая подушку. И беспрестанно повторяла: «Ах, боже мой, боже мой, прости мои прегрешения».. Или вспоминала своего любимого сына, Илью, и шептала: «Где ты теперь, почему так долго не подашь о себе весточки, или тебя уже нет?.. Ах, Илюшка, Илюшка, зачем ты и себя и нас сгубил… Я ж за тобой ухаживала, я ж тебя вырастила, лучший кусок тебе оставляла… украдкой, чтоб другие дети не видали»…
Тут просыпались соседки, участливо спрашивали, не нужно ли ей чего, о чем она говорит. Она пробуждалась от своих мыслей, видела железные решетки, нары, низкие, темные мрачные своды. Острая, как нож, жалость к себе вонзалась в сердце — и громкий стон вырывался, и металась она, задыхаясь, пока не покидали ее силы…
Потом стала тише. Может-быть, осторожней глушил в ней жизнь — опытный палач. Она приходила, как во сне, кусая себе пальцы; переговаривалась с собой шопотом, бесконечно поправляла себе постель, перебирая, разглаживая и комкая ее; перекладывала подушку, садилась, поднималась, ходила по комнате, все громче, все глубже вздыхала, стонала, — и снова, стихая, шептала. Потом волна — снова нарастала, казалось, — прорвется безумное, страшное!.. Арестованные бабы настораживались, сами будоражились, метались по камере; другие, уткнувшись в подушку, рыдали: у каждой свое горе… а у нее волна снова спадала… возилась с постелью, ложилась, поднималась… Вдруг резкий дикий крик сотрясал стены камеры, обезумевшая стая баб готова была наброситься на нее, а она вскакивала, дико хохотала, рвала волосы…
Снова укладывали ее, пока не слабела ее тело и глубокое дыхание не успокаивало помертвевшую камеру. Бабы возились около нее с мокрыми полотенцами, прикладывали к голове, к сердцу, шептались около нее:
— Вся седая… Пришла молодой, а теперь старуха…
Потом ее освободили. Сама дошла до дома. Прилегла отдохнуть — и больше не поднялась.
Утром, проснувшись, почувствовал Илья, что у него жар спал, но тело ныло, как побитое камнями, во рту было суконно, горько. В доме не было взрослых: хозяин ушел на завод, хозяйка — на базар, дети играли во дворе. Он лежал на спине и слабым усилием побуждал себя вспомнить нечто, томившее его…
Вдруг он поднялся — голова закружилась, в глазах потемнело, заломило… Переждал, пока успокоилось и, пересиливая слабость, начал искать одежду. Отыскал ее, грубую, горькую, пропахшую табаком. Долго одевался. Вышел на свет. Постоял у притолоки, отдышался, подбодрился свежим воздухом, будто вина выпил. Пошел. На перекрестке вырвался из-за угла порыв ветра и сильно качнул его. С трудом, задыхаясь, поднимался по острым камням. Итти было недалеко.
Вошел в комнату. Много товарищей. В глазах рябит, расплывается. Он видит только Шмидта. Подбодрился, чтобы не быть жалким — жалкий не убедит, — сел верхом на стул, оперся руками на спинку:
— Товарищ Шмидт, я же говорил… Ты же соглашался со мной…
«Какой дребезжащий, жалкий, неубедительный голос, — подумал он со страхом. — Не поймут же меня!»…
— Нельзя тут оставаться… Нужно в горы… А здесь все погибнем…
«Какой я дурак! Вздумал убедить их, здоровых, сильных! Ведь они смеются надо мной!»
— Мне трудно сейчас изложить… Но я же тебе все говорил… и Пашет здесь говорил… но почему же… Ведь переловят, как кур, погибнем… Все погибнем…
В глазах пошли круги, синие, голубые, розовые, потемнело — и голова упала на спинку стула…
— Ты не волнуйся, товарищ Илья, — успокаивающе заговорил Шмидт. — Все так и сделали, как ты говорил, по-твоему и сделали…
Поднял голову, улыбнулся по-детски, счастливо, потом осмотрелся — серьезные лица. «Как стыдно, как стыдно! Скорей отсюда: они же не поймут!» — Мешковато поднялся, застенчиво начал пятиться — и ушел, жалкий, презирающий себя за немощь, за наивность…
Все осталось по-старому. Все так же собирались ночевать на явочную квартиру, где жил Семенов и Нюся, где были спрятаны деньги, документы, все, что удавалось достать и требовалось спрятать; все так же ложились вповалку на полу, дурачились, много смеялись.
Семенов ходит по комнате, наклонившись, засунув руки в карманы. Он ерошит назад непокорные, недавно отращенные волосы, торчавшие ершом, и в сотый раз рассказывает:
— Едет крестьянин по дороге, подбегает парнишка: «Дяденька, отдай гроши!» — «Шо? Яки тоби гроши? Як визьму кнут, да по…» — «Эй! Отдай! Отдай!» — кричит здоровенный дядя — из-за камней поднялся. — «А-а, это вы? А я думал — кто!» — Старик лезет за кисетом и отдает его мальчику.
Потом берет в руки в сто первый раз книжку, разворачивает, воздевает руку, копируя салонного поэта, подлетает к Нюсе, бросается на одно колено и с трепетом, с замиранием или грозно, настойчиво говорит:
— О прекрасная, о несравненная! Как я жажду коснуться края твоих одежд, поцеловать следы твоих ног!..
Она уже изучила его приемы, привыкла к ним и все-таки не знает: шутка ли это или за шуткой скрывается то волнующее, что недоступно ей. И улыбается растерянно. Она жаждет любви, ей чужды ласки. Выросла в страшной еврейской нищете, среди дюжины грязных рахитичных детей. Едва выросла, как запряглась в хомут, пошла на завод, зарабатывать хлеб для семьи. Маленькая, худенькая, черненькая, скромная, она не могла верить, чтобы кто-либо мог говорить такие чудесные слова какой-либо женщине; она видела в жизни лишь грубое, животное желание смять ее, изломать — и выбросить.
Она из числа тех шести девушек — евреек, которых дали на выбор Илье для подполья. Не попала в число пяти, которые поехали через фронт и исчезли. Не спасло ли ее это? Выехала из Дюнбюро одиночкой и добралась до Ростова и Новороссийска.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: